 Это первая публикация в Интернете стихов
детей из концлагеря Терезин на русском языке. Она предваряет выход издания
второго из четырех томов под общим названием «Крепость над Бездной». Первый
вышел в 2003 г. в издательстве «Мосты культуры», и был посвящен дневникам
узников Терезина, второй, «Я – блуждающий ребенок», освещает жизнь и творчество
детей.1 Это первая публикация в Интернете стихов
детей из концлагеря Терезин на русском языке. Она предваряет выход издания
второго из четырех томов под общим названием «Крепость над Бездной». Первый
вышел в 2003 г. в издательстве «Мосты культуры», и был посвящен дневникам
узников Терезина, второй, «Я – блуждающий ребенок», освещает жизнь и творчество
детей.1
Автор проекта – писатель и историк Елена Макарова. В данном случае мы
употребляем слово «проект» не зря, так как в нем, кроме Е.Макаровой, принял
участие Сергей Макаров и известная поэтесса Инна Лиснянская. Стихи детей
концлагеря Терезин публикуются в ее переводах.
Мы выражаем благодарность Музею Яд Вашем и мемориалу «Бейт-Терезин» (Израиль),
Мемориалу Терезин и Еврейскому музею Праги (Чехия), за предоставленные
материалы.
Елена Макарова
1. ТЕРЕЗИН
Военный городок Терезинштадт (по-чешски – Терезин) был построен в конце XVIII
века. Он был назван в честь императрицы Марии-Терезии и предназначался для
защиты габсбургской империи от нападений с запада. Фортификационные сооружения,
опоясывающие Терезин, имели форму восьмиконечной звезды, по границам которой
протекали реки Эльба и Эгер. Перед Второй мировой войной город был населен
небольшим гарнизоном и малочисленным гражданским населением: во время переписи
1930 года в городе проживал 7.181 человек. Наверное, единственным выдающимся
событием в истории Терезина было заточение в местную тюрьму, так называемую
Малую крепость, сербского студента Гаврилы Принципа, совершившего в 1914 году
покушение на эрцгерцога Фердинанда.
В марте 1939 года этот тихий бастион был захвачен немецкой армией, наступавшей
на Прагу. Было решено превратить город в еврейское гетто. Историки по сей день
спорят, как называть Терезин: гетто, пересыльный лагерь или концлагерь.
“Наш лагерь был рассчитан на смерть, – рассказывает бывший заключенный Йозеф
Мануэль, – и при этом организован для жизни. Этакий мутант, с головой убийцы и
телом жертвы. Фашистская голова давала приказы еврейскому телу, а оно, в свою
очередь, должно было найти такую форму существования, которая позволила бы ему
выжить. В этом-то и состоял весь абсурд… Евреи были весьма талантливы и смогли
продержаться сравнительно долго” .
24 ноября 1941 года в Терезин прибыл первый транспорт с заключенными –
“строительная бригада” AK I. Ей было поручено подготовить город к приему
транспортов.
30 ноября начали приходить составы из Протектората, с каждым прибывало около
тысячи человек. 4 декабря в Терезин приехала вторая “строительная бригада”,
транспорт AK II. В тот же день из Праги было депортировано и еврейское
руководство – сионисты, занявшие ключевые посты в руководстве терезинского
лагеря.
Условия, в которых заключенным пришлось проживать первые полтора года
существования гетто, были крайне тяжелыми, – прежде всего, в силу немыслимой
перенаселенности города. Из 152 тысяч заключенных, прошедших через Терезин, 35
тысяч умерли в лагере от болезней и истощения. Сентябрь 1942 года отмечен двумя
трагическими рекордами: наивысшая смертность (до 156 человек в день) и наивысшая
плотность населения: в городке находился 58491 заключенный, что почти вдесятеро
превышало его вместительную способность.
В январе 1942 года правитель Протектората, обергруппенфюрер СС Гейдрих, объявил
о превращении Терезинштадта в еврейское гетто для стариков, инвалидов и героев
Первой мировой войны из Австрии и Германии. Летом 1942 года лагерь начал
принимать транспорты из этих стран, а также из Голландии и Дании. При “очистке”
городов и областей, по особому распоряжению оберштурмбанфюрера СС Эйхмана, в
Терезин направлялись евреи – государственные деятели, военные и артисты, а также
пациенты еврейских больниц из Берлина и Вены – калеки, слепые, глухонемые,
душевнобольные – те, кого не успели уничтожить по программе эвтаназии .
Практически сразу по основании гетто нацисты задействовали и другой маршрут: из
Терезина – в лагеря уничтожения. Терезин превратился в своего рода узловую
станцию: те, кому повезло, пережидали там какое-то время, иногда больше двух
лет, но многих депортировали через несколько дней или недель. В 1942 году
тысячные транспорты ушли в Треблинку, Ригу, Тростинец, Минск, Замощь, Раасику и
пр.; затем, с конца октября 1942 года, – в Освенцим-Биркенау.
Адольф Эйхман назвал Терезин “маленьким сионистским экспериментом для будущего
еврейского государства". Для проведения эксперимента Эйхман учредил в городе,
"подаренном" евреям самим фюрером, еврейское самоуправление. Этот "подарок" был
на самом деле огромной мистификацией, скрывающей массовые убийства. В Терезине в
1943-1945 г.г. побывало несколько комиссий Международного Красного Креста. Перед
каждой комиссией заключенные по приказу эсэсовской комендатуры проводили
"приукрашивание": снималась колючая проволока, воздвигались "кафе" и "магазины",
детям раздавали бутерброды, красивые девушки с песнями шли на работу. Делегаты
МКК уезжали в полном восторге, так и не узнав страшной истины о голоде,
эпидемиях, депортациях. Впоследствии, ободренные успехом фашисты запечатлели эту
"потемкинскую деревню" на пленку создав фильм о счастливой жизни евреев под
Гитлером.
Город управлялся Советом старейшин, в нем действовали правоохранительная служба
(суд и тюрьма), медицинская служба (больницы, амбулатории и изоляторы),
отделение связи, банк, общепит (столовые и кухни), в нем проводились иудейские и
христианские богослужения, было и своего рода "министерство культуры и спорта"
(так наз. "Отдела досуга"), которое проводило множество мероприятий, от
театральных постановок до футбольных матчей. Однако все эти институты, во главе
с Советом старейшин, подчинялись “голове” – немецкому командованию, ни одно
мероприятие не могло быть проведено без визы комендатуры.
Отбор на депортацию тоже проводился еврейским начальством. Заключенные, попавшие
в транспортные списки, имели право подать “рекламацию” – просьбу об освобождении
от депортации «в Польшу». В качестве доводов осужденные приводили разнообразные
обстоятельства – состояние здоровья, ответственная должность, личное знакомство
с нацистскими начальниками. Нередко от отправки спасала протекция в Совете
старейшин – однако всегда ценой депортации другого заключенного из “запасного”
списка.
С осени 1943 года все транспорты из Терезина выдавались за “рабочие”. В сентябре
1944 года в Терезине было объявлено о строительстве “нового рабочего лагеря в
районе Дрездена”. Были отобраны работоспособные мужчины, затем за ними (часто
добровольно) отправились их жены, дети и старики.
Сентябрь-октябрь 1944 года – пик терезинской трагедии. 11 транспортов увезли в
Освенцим-Биркенау почти 20 тысяч человек.
Знали ли заключенные об уготованной им судьбе? Несомненно одно: даже если они и
догадывались о массовом убийстве, то все равно старались уговорить себя: "со
мной этого не случится". Например, по рассказам Хильды Хан, ее начальник за два
дня до отправки на восток вручил ей на хранение прощальное письмо, адресованное
родственникам в Америку, где было написано, что через 48 часов его не будет на
свете, – и пошел к дантисту лечить зуб. Начальник, как и все руководящее звено
лагеря, знал, что происходит в Освенциме, однако скрывал это ото всех, и, в
первую очередь, от самого себя.
В ноябре 1944 года газовые камеры Освенцима были взорваны. Депортация из
Терезина прекратилась.
Теперь в него стали прибывать транспорты из Протектората и Словакии, а позже, в
апреле, пешие "походы смерти" из концлагерей, опустошаемых СС по мере
приближения линии фронта. За последние недели войны в Терезин было доставлено
15.375 тифозных, туберкулезных, умирающих от голода людей. Медицинский персонал
гетто бросился на борьбу с эпидемией.
8 мая 1945 года Терезин был освобожден войсками третьей танковой дивизии под
командованием генерала Рыбалко. Борьба с эпидемией, унесшей более полутора тысяч
жизней, завершилась в середине июня.
2. ДЕТИ
 Всего в Терезине было более 10500 детей младше 15 лет и около 2000 младше 18
лет. Из 12500 детей выжило около 1000. Всего в Терезине было более 10500 детей младше 15 лет и около 2000 младше 18
лет. Из 12500 детей выжило около 1000.
Детские дома располагались в тринадцати зданиях. В каждом здании размещалось от
200 до 300 человек, на одну комнату приходилось от пятнадцати до сорока детей.
При каждом детском доме был изолятор, врач, медсестры и другой вспомогательный
персонал. Каждая комната (иногда две) считалась самостоятельным "детдомом" со
своими воспитателями и вожатыми.
Учить детей было запрещено.
В "ситуации постоянной временности" невозможно дать детям формальное
образование, - писал в Терезине профессор-античник из Праги М.Адлер, - но можно
научить учиться. "Новый стиль образования через самостоятельную работу содержит
в себе зародыш школы будущего", – говорил он.
Никакой практической выгоды педагогическая деятельность не приносила: ни
прибавки к пайку, ни улучшение жилья, ни освобождения от транспорта.
«Воспитательницы работают круглосуточно, - писал в отчете заключенный
Ф.Штекльмахер. - Каждую третью неделю у них ночное дежурство… Встают к больным
детям в среднем по пять раз за ночь… Те, с кем я беседовал, объясняют это
любовью к детям, - то есть - чистый идеализм».
В Терезине с детьми работали призванные.
Три года оккупации и время, проведенное а Терезине, сделали из детей философов.
Неотступная мысль о смерти, даже если она не допускалась сознанием, терзала
исподволь, и дети задавались вопросами, на решение которых обычно уходит вся
жизнь.
В стихотворении Франтишка Баса «Садик», кажется, нет особой философии, всего
лишь щемящее чувство расставания с жизнью. Но, если вдуматься, то мы увидим, что
это стихотворение – притча о невозможности постичь это мир. Человек – это
нераскрытый бутон. В момент, когда он готов раскрыться, у него отбирается жизнь.
Садик
Вот он садик аленький.
Пахнут розы робко.
Ходит мальчик маленький
Узенькою тропкой.
И похож мальчоночка
На бутончик ранний.
Лишь бутон раскроется –
Мальчика не станет».
Дети постоянно решали этические проблемы; им так хотелось, чтобы мир подобрел,
чтобы человек – «венец творения» – проявил милосердие если не к врагам своим, то
хотя бы к ближним.
В журнале «Рим Рим Рим» опубликован рассказ «Нужда и богатство», подписанный
Гидотом Палко (к сожалению, настоящее имя мальчика неизвестно).
«Большой город был поделен на две части. В первой жили в прекрасных домах
богатые люди, а во второй, в деревянных хибарах, бедные. В богатой части жил
очень обеспеченный врач. Однажды пришлось ему проходить по другой стороне
города, и увидел он там страшную нужду и болезни. Вернувшись домой, он стал
размышлять о болезнях, которые распространились в среде бедняков. И пришел к
выводу, что он мог бы их спасти на свои деньги. Он снял небольшой деревянный
домик в бедной части города и устроил там ординаторскую. На следующий день он
пошел осматривать больных. Бедняки так обрадовались доктору! А он отдавал все
силы на лечение и ничего за это не брал. Число больных резко сократилось. Однако
когда доктору понадобилось докупить лекарств, выяснилось, что у него уже почти
нет денег. Тем не менее, видя, что его работа приносит хорошие плоды, он не пал
духом и накупил лекарств на последние деньги. Когда и последние лекарства вышли,
он, не найдя другого выхода, пошел работать на завод. На что-то ж надо было ему
жить! Больных снова стало больше, и он решил голодать, чтобы сэкономить на
лекарства. По несчастью он получил смертельную травму на заводе. Начальник велел
рабочим отнести его в его коморку и тут же забыл о нем. Вся беднота ходила его
навещать, все старались ему помочь, но не могли. Они видели, что он при смерти.
Умирая, он сказал: "Познал я нужду и богатство".
Или вот размышления в дневнике четырнадцатилетней девочки: «Бог, искусство,
красота, добро – сегодня все это так далеко от нас. Наверное, пройдут сотни или
тысячи лет, пока эти понятия настолько в нас укоренятся, что мы будем думать о
них так, как сегодня думаем о вещах насущных – заработке, пище и т.п. …Имеет ли
жизнь смысл сама по себе? Не человек ли призван наполнить ее смыслом»?
3. ПОДПОЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ
Практически все журналы, выпускаемые в детских домах, сохранились. Наиболее
известные – "Ведем" (Мы ведем), 700 стр., "Камарад" (Товарищ), 350 стр.,
«Новости» (L 417, комната №10), «Рим Рим Рим» (Мир Мир Мир), 332 стр., «Нешарим»
(Орлы), 120 стр., «БОНАКО» (Бордель на Колесах), 112 стр., «Отчизна», 62 стр.,
«Голос чердака» (Q 306), 48 стр.
Отправляясь на транспорт, люди забирали с собой личные вещи, и таким образом
пропало много документов. Журнал – дело общественное, он передавался из рук в
руки. Например, «Ведем» был спрятан в кузнице, где работал отец одного из
авторов, «БОНАКО» сберегла воспитательница Гертруда Секанинова, и т.д.
Журналы делались по примеру «настоящих», с тематическими рубриками, романами с
продолжением, статьями на злобу дня, кроссвордами, иллюстрациями, - словом, это
были полноценные издания, разве что в единственном экземпляре. Из номера в номер
публиковались захватывающие приключенческие романы, в них герои совершали
путешествия в Индию и Гренландию, в Аргентину и Африку. В лице своих героев они
защищали обиженных, боролись за справедливость и из жертв становились
победителями.
Миша Краус, один из авторов «Камарада», объяснил причину возникновения журнала
так: «Скорее всего, мы последовали примеру других детских домов. "Камарад" был
гигантским предприятием, которое всех вовлекало в работу, возбуждало творческую
энергию и помогало выплескивать на бумагу все эмоции, преодолевать раздражение,
которое в нас накапливалось».
А вот что сказала воспитательница Гертруда Секанинова о журнале «БОНАКО»:
«У девочек должно было быть занятие, в котором могут участвовать все, причем
такое, которое имеет продолжение. В ситуации, когда каждый день грозит гибелью,
заинтересованность в общем деле укрепляет дух: мы не сдадимся, мы будем
продолжать, во что бы то ни стало.
Оптимизм был необходим, причем не заоблачный, мол, сейчас плохо, но когда-то,
где-то будет лучше. Нет. Нужно было видеть, что происходит на самом деле – и при
этом верить, что есть выход и все еще можно изменить".
 В работе принимала участие вся комната. Но душой всего был, разумеется, главный
редактор. В работе принимала участие вся комната. Но душой всего был, разумеется, главный
редактор.
Вот как описывает свою работу Иван Полак (1929-1944): «Наверняка дома все вы
читали в периодике статьи о том, как делается журнал; <…> я решил написать об
этом. Разница в том, что дома выпуск журнала проходил через разные инстанции,
путешествовал по редакциям, типографиям и прочим местам. "Камарад" рождается на
моих нарах. Дома мы извели бы уйму бумаги и красок, нам понадобилась бы пишущая
машинка и т.д. – а мне для "Камарада" нужно 2 листа бумаги, чернила, ручка, перо
и акварельные краски. Но оставим процесс подготовки и обратимся к выпуску
"Камарада". Выделим три этапа: 1) поиски бумаги и пишущих средств, 2) поиски
материала и 3) переписывание в номер.
1) Нахождение бумаги и принадлежностей для письма – одна из наитруднейших задач.
Главное – бумага. На первые номера бумагу подарил Шулька, на третий номер я у
него ее вымогал, на четвертый он тоже дал – но в последний раз. На пятый номер я
нашел приличную бумагу у себя в папке, но на шестой ее не хватило. В конце
концов, я нашел бумагу, но она оказалась очень сухой и всасывает в себя чернила,
как пиявка.
На 7-й и 8-й подарил бумагу Хан, очень хорошую. Кругом-бегом мне хватит бумаги
еще на 4 номера. Шулина одолжил авторучку, у которой есть существенный
недостаток, что видно по моим пальцам – она течет… Камчус одолжил ластик, но и
тот не без причуд – постоянно от меня прячется, и я нахожу его то на полу, то у
Гротта в койке. Акварельные краски дал Бейк, а кисточка осталась от Мишкуса .
Недавно я обнаружил у отца треугольник и тотчас его прикарманил. Карандашей
полно, кто бы ни нашел карандаш, жертвует его мне со словами: "Дарю "Камараду"".
Больше мне ничего не нужно, разве что пару больших листов для эскизов, да, чуть
не забыл про цветные карандаши, мне их подарил Лекнер. И теперь я нуждаюсь лишь
в одном – в тишине для переписывания. Но об этом в рубрике "Переписывание".
2) Сбор материала – второй и очень утомительный этап. Уже на следующий день
после выпуска я выступаю с призывом: "Гоните статьи, нет материалов на следующий
номер!" И вот приходит воскресение, а у меня пустая папка. Снова взываю к
народу: "Плохо! Не будете писать – "Камарад" в пятницу не выйдет". В результате
как обычно к бумаге склоняется Мыдлайс и своей слоновой лапой шкрябает
душещипательный рассказ о каком-нибудь неудачнике. Он пишет на туалетной бумаге
жутким почерком, стоит взглянуть на его каракули, и уже голова раскалывается. И
тут являются Шулина с Круцей (следует отметить, что Шулина исправляется, а
позорник-Круца вообще перестал писать). Хуже всего работать с Томашем. Чтобы
заполучить от него "Историю Дома", а именно она нужна мне позарез, я должен
исчерпать весь запас слов. Отъезд Мишкуса – ужасная утрата для журнала, он был
единственным, кто все сдавал вовремя. Получить в срок материалы от Шупайды,
Пугала, Марцела, Гансистов, Фельдмуша, Солнышка или Фрединки – чудо невероятное.
Уставлюсь – и глазам своим не верю. От Бейка – то вообще ничего, то гора.
Некоторые ленивцы (напр., Мыдлайс, Пепечек и пр.) божатся, что им не на чем
писать, а на самом деле они просто вымогают у меня бумагу. Заявляю: свою бумагу
я больше никому не даю.
3) Переписывание – последний и самый трудоемкий этап выпуска. Поведаю вам о
муках и страданиях, которые я при этом испытываю, и, кто знает, может и выжму из
вас хоть каплю сочувствия. До того, как к этому перейти, еще раз напомню, что
"Камарад" обязан выйти в пятницу, и что это для меня связано с большими
трудностями. Ладно, начнем:
 В воскресение (раньше по понедельникам) я устраиваюсь поудобнее на нарах, достаю
из глубины полки папку с материалами, картон, коробку с карандашами, акварельные
краски, воду и т.д. Весь этот свинарник выглядит весьма живописно; в центре сижу
я с пером и бумагой на коленях. Зрелище это, если понаблюдать его с близкого
расстояния, способно вывести из себя самого раздобрейшего вожатого. Ладно,
поскольку уже от одного этого описания вам стало плохо, то продолжу. Беру два
листа, складываю их и режу пополам. Беру карандаш и по "сердечному" шаблону
вычерчиваю на титульной странице сердце. Подписываю: "Еженедельный журнал, номер
XV". Протираю ластиком и обвожу снова, чтобы все было all right. Потом
переворачиваю будущий журнал, и на обратной стороне рисую "Зандлужандо". При
этом меня трясет от злости, поскольку любопытные домочадцы во все суют свой нос
и не дают работать. Первый и главный мучитель – Гонза Корец. Он взирает на меня
свысока, стоит ощутить его хладнокровный взгляд, как из моих рук вылетает картон
– и прямо Круце по голове. Второй главный мучитель, выдающийся подлец и
злоумышленник – Мыдлайс, он постоянно бросает косые взгляды на мой "гешефт".
Есть и другие мучители, рангом ниже. Но надо продолжать дальше. Я дорисовываю
Зандлужандло, открываю краски, беру кисть, тряпку и начинаю раскрашивать. В воскресение (раньше по понедельникам) я устраиваюсь поудобнее на нарах, достаю
из глубины полки папку с материалами, картон, коробку с карандашами, акварельные
краски, воду и т.д. Весь этот свинарник выглядит весьма живописно; в центре сижу
я с пером и бумагой на коленях. Зрелище это, если понаблюдать его с близкого
расстояния, способно вывести из себя самого раздобрейшего вожатого. Ладно,
поскольку уже от одного этого описания вам стало плохо, то продолжу. Беру два
листа, складываю их и режу пополам. Беру карандаш и по "сердечному" шаблону
вычерчиваю на титульной странице сердце. Подписываю: "Еженедельный журнал, номер
XV". Протираю ластиком и обвожу снова, чтобы все было all right. Потом
переворачиваю будущий журнал, и на обратной стороне рисую "Зандлужандо". При
этом меня трясет от злости, поскольку любопытные домочадцы во все суют свой нос
и не дают работать. Первый и главный мучитель – Гонза Корец. Он взирает на меня
свысока, стоит ощутить его хладнокровный взгляд, как из моих рук вылетает картон
– и прямо Круце по голове. Второй главный мучитель, выдающийся подлец и
злоумышленник – Мыдлайс, он постоянно бросает косые взгляды на мой "гешефт".
Есть и другие мучители, рангом ниже. Но надо продолжать дальше. Я дорисовываю
Зандлужандло, открываю краски, беру кисть, тряпку и начинаю раскрашивать.
Я смешиваю краски до тех пор, пока не выйдет тот цвет, какой я задумал, и берусь
за кисть. Рисование красками – это дело, в которое надо погрузиться целиком, оно
не терпит проволочек. Когда мне мешают работать, я страшно нервничаю. Заканчиваю
к вечеру, будущий журнал должен просохнуть. На следующий день, если выдастся
время, работаю над Томашевой "Историей Дома" и начинаю писать. Сначала провожу
карандашом линию для заголовка, потом очерчиваю края, чтобы за них не залезать.
Набираю чернил в бедную охромелую авторучку и пишу. Когда переписываешь, ни на
что нельзя отвлекаться, вот поставлю последнюю точку и тогда могу говорить.
Переписывание – дело тягомотное, но для "Камарада"
 я писать люблю и совершенно
от этого не мучаюсь, наоборот, я испытываю удовольствие. Обидно одно – некоторые
ребята такие безжалостные, что способны отравить всякую радость – даже ту,
которую я получаю от трудоемкой работы. Так вот и мужает с каждым днем
"Камарад". я писать люблю и совершенно
от этого не мучаюсь, наоборот, я испытываю удовольствие. Обидно одно – некоторые
ребята такие безжалостные, что способны отравить всякую радость – даже ту,
которую я получаю от трудоемкой работы. Так вот и мужает с каждым днем
"Камарад".
Нередко случается, что по недосмотру я пропущу слово-другое в предложении,
просто не замечу, и вы должны мне это простить, – так всегда выходит, когда
пишешь на скорую руку. Много сил уходит на оформление "Забавного уголка". И вот,
представьте себе, "Камарад" почти готов. Пустуют лишь страницы романов с
продолжением, и нет оглавления на титульной странице. Так выглядит журнал в
четверг и даже в пятницу утром. Остается взяться за карандаш и нарисовать
иллюстрации. Это я делаю быстро, а написать оглавление – сущий пустяк. Вечером,
как заведено, я хватаю "Камарад" и бегу к "бабизне", та прошивает его
бело-голубой лентой и при этом ворчит – то не эдак, и то не так. Без пятнадцати
семь "Камарад" готов полностью. За пятнадцать минут до торжества, я прихожу с
журналом домой – пора готовиться к пирушке, отмечать день рождения «Камарада».
<…> Потирая могучие руки и лучась от счастья, я завершаю данную рубрику.
В 90-х годах были, наконец, изданы избранные произведения авторов «Ведема» на
языке оригинала (чешском), а также на французском, немецком и английском.
«Камарад» был издан лишь на иврите.
4. СТИХИ И ИХ АВТОРЫ
Не все детские стихи «публиковались» в журналах. Некоторые стихи дети дарили
воспитательницам, так у Ирмы Лаушеровой образовалась коллекция стихов, одно из
них, " Сарой праматерь звали...", приводится в данной подборке. Увы, И.Лаушерова
не написала настоящее имя девочки, известно, что ей было 12 лет, и она не
выжила.
"Бабочку" и другие стихи Павла Фридмана (1926-1944) сохранил его друг по нарам,
Ш.Шмидт, который ныне живет в Иерусалиме, от него я получила подборку стихов
Фридмана.
Стихотворение "Садик" Франтишка Басса (1930-1944) хранится в архиве Еврейского
музея в Праге.
“Q 306” Зденека Грюнхута (1934-1944) взято из подпольного журнала «Голос
чердака», стихотворение названо по номеру детского дома.
" Что со мной будет?" написано Яном Стребингером по кличке Горилла на конкурс
журнала «Рим Рим Рим». После Освенцима и рабочих лагерей Ян остался сиротой,
вернулся в Прагу, в 1969 году эмигрировал в Буэнос Айрес, где стал крупным
бизнесменом.
Стихи Петра Гинца (1928-1944), Гануша Гахенбурга (1929-1944), и пережившего
катастрофу Зденека Орнеста (1929-1990), - взяты из журнала «Ведем».
 Петр Гинц стал главным редактором «Ведема» в четырнадцать лет, а в шестнадцать
был убит. После него осталось обширное наследство: романы, рассказы, стихи,
философские эссе, рисунки, литографии…
Петр Гинц стал главным редактором «Ведема» в четырнадцать лет, а в шестнадцать
был убит. После него осталось обширное наследство: романы, рассказы, стихи,
философские эссе, рисунки, литографии…
В Терезине Петр изучал латынь, эсперанто, географию, зоологию, социологию,
философию и религию. Сохранился 44-страничный конспект книги о буддизме
(“Брахманизм или переселение душ”).
Петр подходил к смерти вплотную, заглядывал в ее котел – бездну небытия. Время
сокращалось неумолимо, и он спешил.
“Июнь 1944. Работаю в литографском цеху, сделал физическую карту Азии и принялся
за карту мира, для проекции.
Изучал: Античность (египтяне, вавилоняне, индийцы, финикийцы, израэлиты, греки,
персы и пр.). Географию Арабии, Голландии и Луны.
Нарисовал: овчарню, за ней Верхлабские казармы.
Начертал в голове и на бумаге обзор по зоологии, хожу на вечерние лекции о
Рембрандте, алхимиках и пр.”
Большая часть написанного им в Терезине опубликовано в “Ведеме”.
Петр много писал о кораблях. Они штурмуют моря и океаны в рассказах “Безумный
Август”, “Путь капитана Камаро” и “Капитан Аарон”… Даже сочинение о
происхождении ругательств завершается плаваньем на корабле: “…Я поплыл бы домой
на корабле "Пацифик" и уснул бы там, убаюканный гулом гребного винта. Я бы
уснул, всем на свете довольный, и в сонной голове крутили бы свои винты
гекзаметры Гомера:
“И проспал он так целую ночь, в сладкие грезы видений укутан”.
Копию рисунка Гинца “Вид вселенной из космоса” взял в полет "Атлантика"
израильский космонавт Илан Рамон.
О Гануше Гахенбурге известно мало. Главная информация о нем сохранилась в
дневнике бывшей заключенной Ханы Поссельтовой-Ледереровой .
“18.6.1943... Поздним вечером я увидела на улице мальчика. Потрясающий ребенок!
В его огромных темных глазах была такая неземная мудрость, что дух захватило. Он
не обратил на меня внимания. Естественно. Мимо него проходило столько чужих
людей! Разве всех заметишь? Но может быть, и, скорее всего это так, ему нельзя
было вечером быть на улице. Столько указов и приказов, не знаешь, какому
следовать. Но глаза его притягивали как магнит, и я решила к нему подойти. Я
задала ему глупый вопрос, куда он идет. Он остановился, взглянул на меня
удивленно и сказал, что ищет друга, который ушел без разрешения, и никто не
знает, где он. “Сколько ему лет, – спросила я его. – Как мне, четырнадцать. –
Можно я помогу тебе его искать? – Пожалуйста, но думаю, нам его не найти. Скорее
всего он у мамы, но я не знаю в каком блоке она живет. – А где живет твоя мама
ты знаешь? – Нет у меня никакой мамы, и отца нет” . В этот момент я сказала
себе: идиотка, ничего ни у кого не спрашивай, здесь все хуже, чем можно себе
представить… Не знаю, но почему-то мне подумалось, что вот и черешня созрела, а
у мальчика ничего нет, ни мамы, ни черешни, ни отца. Голова шла кругом, я еле
сдержалась, чтобы не обнять его и не расплакаться…
Звали его Гануш Гахенбург. Тихий-претихий мальчик, за которым простиралось море
печали. В свои четырнадцать он уже понял, что такое смирение. И что такое
мудрость. Купленная тяжелой ценой. Душой он был старше меня, хотя я была старше
него на десять лет…
Мы побродили немного, но друга его не нашли. Постепенно мальчик расположился ко
мне, и спросил: “Хотите послушать стихотворение, которое я написал?” – “Конечно
хочу, тем более твое. Ты давно пишешь стихи?” – “С того времени как потерял маму
и папу и оказался в Терезине”. – “А как называется стихотворение?” – "Терезин".
– “Так читай, а потом перепиши мне на память, ладно?”
Он начал читать:
Терезин
На стенах грязных грязи пятно.
Колючая проволока. Окно.
30 тысяч уснувших навеки.
Однажды проснутся они и увидят
Собственной крови реки.
Я был ребенком назад два года
Мечтал о дальних мирах.
Теперь я взрослый, узнал невзгоды,
Я знаю, что значит страх,
Кровавое слово, убитый день.
Не рассмешит меня дребедень,
Не напугает чучело на огороде.
При этом верю – все это сон,
Колокол вздрогнет – и окончится он,
Проснусь и вернусь я в детство,
Оно, как дикая роза в шипах.
Ребенок ущербный у матери на руках, –
Она его нежит больше детей других.
Дни моей юности – что ожидает их?
Враг да удавка.
Юность страшна. Страшен её приговор:
Вот – зло, вот – добро, а вот твой позор.
Там, вдалеке, где детство уснуло сладко
На узеньких топках Стромовского парка
Кто-то смотрит из дома. Но в том окне
Одно лишь презренье осталось ко мне.
В ту пору, когда сады набирали цвет,
Мать подарила мне божий свет,
Чтобы я плакал.
Я сплю на досках при свете свечном.
Но время придет, и увижу в упор,
Что был я всего лишь маленьким существом,
Таким же крохотным, как этот хор
Из тридцати тысяч жизней,
Замолкших тут.
Однажды воскреснут на милой Стромовке они,
Подымут холодные веки
Глянут во все глаза на текущие дни,
И снова уснут
Навеки.
И он умолк. Спустя какое-то время я сказала: “Прекрасное стихотворение. Спасибо.
Только очень печальное. До слез. Но здесь, наверное, не место веселым стихам, да
и мог бы ты их писать?” – “Нет, у меня бы не вышло. Да и зачем?” – “Ты любишь
писать?” – “Мне легче, когда я пишу стихи. Это единственные мгновения, когда мне
хорошо…"
Еще известно, что Гануш продержался в Освенциме полгода, и одно его
стихотворение передавалось из уст в уста. Однако, из 5000 чешских евреев,
прибывших с ним в Освенцим, в живых осталось 27 человек, и эти люди, прошедшие
через нацистские медицинские эксперименты, утратили память, и не только на
стихи. Но, бывают чудеса, и, может быть, освенцимское стихотворение Гануша
Гахенбурга как-то да отыщется.

Со Зденеком Орнестом (Орнштейном) меня связывала тесная дружба. После войны,
пройдя Терезин, Освенцим, Бухенвальд и Дахау, он вернулся в Прагу. Начав свою
артистическую карьеру в Терезине, где он пел в детской опере, Зденек стал
известным актером театра и кино.
Стихов он больше не писал. Его жизнью стала сцена, где он скрывался от
одиночества, а любимой книгой – «Выбор Софи» Стайрона. Как жить ценой чужой
гибели? – вопрос, сформулированный Стайроном, не давал Зденеку покоя. Незадолго
до самоубийства он рассказал мне вот эту историю: «От нашего барака в Биркенау
до станции было где-то около пяти километров. Или меньше? Это была страшная ночь
стенаний и молитв. В нашем бараке остались одни доходяги. И два брата-близнеца
моего возраста. Я не любил их, за пронырливость. Уведут цыган в газ, они тут как
тут, подбирают вещички… Тогда у меня еще было понятие о том, что дозволено, а
что нет… Тех, кто не мог идти, застрелили. Стреляли в любого, кто поскользнулся
или замешкался … Не помню, как я оказался в открытом вагоне, нас навалили друг
на друга, три-четыре дохляка в одной упаковке… Я не мог дышать, я пытался
спихнуть того, кто лежал на мне, кусал и щипал его, пока он не свалился. И тогда
я увидел – это был молодой человек. Он прохрипел и стих. Мне было тошно смотреть
на труп, и я попросил близнецов оттащить его в сторону, те согласились, за хлеб.
Хлеба у меня не было. Видишь, я не только сравнялся с близнецами, я превзошел
их. Они-то никого не убивали. Зато теперь я знал, что выживу, любой ценой».
Душа его промаялась в этом мире, да так и не нашла себе опоры.
Зденек просил меня перевести и опубликовать журнал по-русски.
Стихи малышей.
Считалка
Эники-беники,
Геттовски кнедлики,
Без масла, без соли,
Без меда тем боле,
Эники-беники-бемс!
Аноним
х х х
Солнышко-око,
Божья коровка,
посиди немного
На моей ладошке.
Целый день спешишь ты
От цветка к цветочку,
К нам сюда в окошко
К ночи залетишь ты.
Божья коровка,
Улетай из гетто!
Нет у нас ни солнышка,
Нет у нас ни теплышка,
Нет у нас на кустике
Розы ни одной.
Лишь мечта одна у нас –
Поскорей домой.
Где ты будешь, солнышко,
Божья коровка?
В пекле иль на небе,
Близко ли, далеко?
Расспроси у небушка,
Когда нашу бабушку
Воротят с ВОСТОКА.
Аноним
х х х
Дом, родимый дом,
Дорогой, единственный, –
Песню пела Аничка ,
Умолкла навсегда.
Где же ты, мой дом,
Сказочный, таинственный,
Самый-самый дорогой,
Самый разъединственный.
Да я ли теперь
Разве Милена из Градца?
Имя мое – три цифры
да печатных две буквы .
Милена
БАБОЧКИ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВУТ
Избранные стихи
Бабочка
та последняя бабочка та последняя самая,
полная солнечного золотого цвета
как желтого солнца слеза о белый звякнула камень
и тут же легко взлетела
словно хотела успеть
расцеловать мой последний свет.
В гетто живу уже седьмую неделю
подругой мне стала каштана белая ветвь
друзьями в саду — желтые одуванчики
Н о б а б о ч к и з д е с ь б о л ь ш е я н е в с т р е ч а л
та была самой последней бабочкой в гетто
бабочки здесь не живут.
Павел Фридман ,4.6.1942
Баллада
Сколько транспортов? Сколько
их пережил из Пардубиц Пепек
в Терезине?
Сколько транспортов? Сколько
их пережил из Находа Карлик
в Терезине?
Три? Два? Один?
Не знаю. Мы снова в списке,
мама уже собирает вещи.
Хейндл орет. CC готовит свой танец
в Терезине?
Молись, «мертвая голова», призывает тебя идолище Гитлера!
Золотые тельцы
и в Терезине
крадут именем чистой расы,
набивают бездонные свои карманы,
мордуют в Терезине «жидяр»
смердящие злодеи, мерзавцы
И здесь в Терезине.
Мордуют и славян
И цыган — «лжецов»
Именем чистой расы.
Оболванили народ,
какой только гадостью
не кормил его тысячелетний рейх
понаделали из людей ослов, овец,
вот и носятся они по горам и долам,
Бекают, мекают — обезглавленное стадо
«Зиг хайль! Зиг хайль!»
Обещают им «лебенсраум» ,
но это все лишь «траум»
тысячелетнего рейха
«Эс коммт дер таг,
Айн нойер таг»
И для нас.
Кая
х х х
Хотите посчитать?
Нары — раз,
Одеяло — два,
Фуфайка — три,
Миска — четыре,
Ложка — пять.
Все, что у меня есть.
Больше нечего считать.
Нет, нет, нет!
Здесь у меня папа,
Здесь у меня мама,
Здесь у меня сестричка,
Здесь у меня братишка,
Пусть мы и не вместе,
Я люблю их всех.
Есть у меня два глаза,
Есть у меня два уха,
Есть и добрые мысли,
Есть и живое сердце,
Есть у меня мозги —
Это мой тайный клад.
Бабушка вынянчила,
Семья вырастила,
Школа выучила —
Есть у меня основа,
И из всего, что знаю,
Черпаю нужное слово.
В гетто наша училка,
Как об отце родном,
О Коменском рассказала.
Нам силы давало это —
Вот он — источник света.
Вслед Коменскому повторяю:
«Промчится гневная буря,
И все, что в жизни утратил,
Ко мне возвратится снова».
Аноним
«Лихтшпере»
(Отключение света с целью коллективного наказания. Прим. ред. )
«Лихтшпере!»
Как, снова «Лихтшпере»?
Что за издевательство!
Или кто-то
над нами шутит?
Кто это сказал?
Ты? — Нет, не я.
«Лихтшпере» —
можно в темноте повалять дурака.
А как? Да вот так:
Немного побаловаться,
подраться и поиграть,
чего-нибудь рассказать,
напроказить, расхохотаться,
кому-нибудь наподдать.
Всё. Устали, стихает возня.
Эрвин песенку напевает
о маленьком домике
о дворе, огородике,
о милом ребеночке
об игривом котеночке
о мягкой постельке
о теплой печурке
о дающем тепло угле
лежащем в огромном ящике, —
о о о о о о о о о о о о о
о домашнем уютном тепле.
И тут наступает глубокая тишина.
Огромная тишина, полнейшая тишина.
Не морозит тебя тишина?
Нет-нет, не морозит.
Не холодит тебя тишина?
Нет, не холодит.
Жаром сердца, дыханьем своим
делятся между собой друзья —
вот и душа в тепле.
И вдруг приходит на ум:
ведь ты до сих пор не знал,
и понял только теперь —
Стужа за дверью, и всюду тьма
нечеловеческой злобы.
А здесь — тепло. Здесь ЧЕЛОВЕК.
Здесь люди,
а там — лишь звери впотьмах,
здесь ЧЕЛОВЕК — и не стыдно
плакать у всех на глазах.
Аноним
х х х
Сарой праматерь звали. А Сарой-Теркой
Я называюсь — узница Терезина.
Жил-был на свете домик, стоял под горкой,
В доме — квартирка в четыре светлых окна.
Всех приглашаю там побывать, как в сказке:
Кухня чистым-чиста и глядится в сад —
Розы алеют, блестят анютины глазки,
Меж голубых незабудок фиалки горят.
Выглядит сад на удивленье пестро.
Всех я сейчас приглашаю войти туда —
Рядышком дружно стоят, как родные сестры,
Острые астры и скромная резеда.
Вот и диван — подушка и покрывало —
С ножками столика вровень. Там у окна
Милая бабушка сиживала, бывало.
Теперь не сидит, в могиле лежит она.
Мускат за окном розовый и бордовый,
Как поживаешь? Кто холит тебя сейчас?
Звонкие колокольца петуньи бедовой,
Кто слушает песни ваши? Кто поливает вас?
Столик на четверых, кто тебя накрывает?
Кто здесь хлебает суп? Кто разливает бутыль?
Родительская постель, кто ее расстилает?
Кто в ней сегодня спит? Кто вытирает пыль?
Как расписная шкатулка у Терки светёлка.
В ней собралось не ценимое прежде добро:
Куклы, картины на стенах, книги на полках,
А на столе — кисть, карандаш и перо.
Тут обрывается сказка. Как все, по приказу,
Как велено, из дому вышла. Надела пальто.
Всё, что любила, да не ценила, сразу
Вдруг превратилось в одно большое НИЧТО.
Мы на заре взвалили на плечи котомки.
Двери закрыли — в скважине хрустнул ключ.
Прочь мы уходим, уходим в такие потемки,
Где ничего-ничего…
Только памяти луч.
Тёрка
Никогда не забуду
Вечером в лазарете, глядя на нас с любовью,
Бабушка приподымала руку, едва дыша.
Тихо рыдала свечка возле ее изголовья,
Так, как будто бы это рыдала моя душа:
«Бабушка, дорогая, останься на этом свете!
Хочешь, задай мне перцу, хочешь — задай ремня.
Я — терезинская, все научилась терпеть я,
Бабушка, дорогая, не оставляй меня!»
К бабушке мать склонилась, гладит дряблую руку,
Капельки пота стирает с похолодевшего лба:
«Мама, спасибо за все, Господь твою примет муку,
Он-то оттуда видит, какая твоя судьба».
И мамино слово застыло, так застывает эхо,
Устала оно толкаться в двери безумного рейха.
Бабушка улыбнулась, мутным погладила взором
Маму, меня и папу, Ханичку и Петра,
И тут же взгляд ее начал шарить по коридору,
По уголкам лазарета, будто бы только вчера
Ее навещали в больнице две дочери и три сына,
Вот уже год как ищет она своих четверых.
Ищет и не находит, их поглотила чужбина.
Еще она ищет внуков и не находит их.
Будит нас желтое солнце и голубое небо,
Наверно, в раю проснется бабушкина душа.
Отдали мне узелочек, вот что мне остается:
Сахара три кусочка, два тонких ломтика хлеба,
Четыре иконки обернутых, огрызок карандаша.
Письмо, что было написано месяц тому как раз,
Внукам благословенье, последний ее наказ:
«Скорей карандаш из рук улетит,
Чем бабушка внуков своих вразумит.
Пусть моя крепкая вера
Будет для вас примером.
Вот вам — души пыл,
Вот вам — души весть:
Добрый человек был,
Добрый человек есть,
Добрый человек будет,
Если Господа не забудет.
Он обязательно должен быть,
Если начнет с себя
Зло на земле винить».
Бабушка, не подведу тебя!
Рут , 14 мая 1944 года

Терезинские дети
К сумраку
Сумрак, какие тебя принесли облака,
от кого ты принес мне привет, ветрами гоним?
По дому родному изводит меня тоска —
можешь его поцелуй к устам приложить моим?
Сумрак, сейчас ты, пожалуй, один на земле,
кто видит глаза мои, полные жгучих слез,
капающих на колени. Глаза мои ждут во мгле
свидания с Эрецом, с тенью олив и лоз.
Может, на свете один ты знаком с тоской
дщери Сионской и знаешь, что плачет она
о местечке малюсеньком, что над Лабой-рекой,
и о том, до чего ей туда дорога страшна…
Неизвестная девочка из L 410
В Терезине
Когда новичок появляется здесь,
всё ему кажется мрачным:
Не буду картошку черную есть
и спать на нарах чердачных!
Кругом грязища и в крыше течь.
Пол и тот, что земля сырая.
Как жить мне здесь и куда мне лечь?
Я себя измараю!
Здесь шум несносный, здесь мух не счесть,
зараза — с ней шутки плохи!
Ой, что меня так укусило здесь —
да неужели блохи?
Страшно здесь летом, страшно зимой —
нас всех Терезин ужасает.
Но когда мы уедем отсюда домой,
никто, даже Бог, не знает.
Неизвестный мальчик из L 417 или L 318
Да, да, да, это точно так!
1
В Терезине в так называемом парке
дед коротает часы,
и думает, что он на райской траве.
До бороды усы.
Чепчик на голове.
Черствый хлеб разгрызает деснами,
зуб-то у деда один.
Милый, грызун мой старенький!
Вместо булки и линцензупе
заработал лишь клок седин.
2
Кто в Праге кров имел и пищу,
Кто в Праге был здоров, богат,
В Терезине стал жалким нищим,
Стал доходягою в бинтах.
А кто жил в бедности, в недуге,
Переживет и Терезин.
Тому же, кто привык к прислуге,
Здесь светит только гроб один.
3
Мышка
Сидит на полочке мышка,
ловит блоху в своей шубке,
да поймать эту блошку не может —
та залезла под самую кожу.
И уж так извелась наша мышка —
не блоха, а чертовка, ей-богу.
Но тут папа пришел, и с порога
стал вычесывать мышкину шубку,
И поймал эту блошку-чертовку
и понес ее на сковородку.
Мчится радостно мышка к деду:
«У нас есть блоха к обеду!»
КОЛЕБА
Q 306
Здесь их убежище, здесь их жилище.
На чердаке ветер воет и свищет.
На верхотуре живет двадцать детей,
Ходит чердак ходуном от разных затей.
Мало здесь места, но много для них не нужно,
На столе и диване играют дружно
Марианка, Томи, Анитка, Ивонка.
Здесь Ивонка все время щебечет звонко,
А вот Томи несчастный все время плачет.
Томи Брандейс конвертики собирает,
А Маженка все время стихи сочиняет.
Ветер врывается к ним на чердак,
Двадцать детей проживают вот так:
На чердаке под бревенчатой крышей
Темною ночью пугают их мыши.
Серые мыши шуршат и пищат,
Дети от страха все ночи кричат.
Зденек Грюнхут

Соня Шпицова (1931-1944). Терезин
Сочинения Гануша Гахенбурга
х х х
Кто я такой?
Какого племени, роду?
К какому я принадлежу народу?
Кто я — блуждающий в мире ребенок?
Что есть Отечество — гетто застенок
Или прелестный, маленький, певчий край —
Вольная Чехия, бывший рай?
«Ведем», №7
Вопросы и ответы
К чему человечеству точность прекрасной науки?
К чему ему женщин красивых губы и руки?
К чему этот мир, если миром бесправье правит?
К чему ему солнце, коль день никак не настанет?
Зачем ему Бог? Чтоб только карать и мучить?
Иль чтоб человечество стало немного лучше?
Может быть, мы и не люди вовсе, а звери,
Рожденные для страданья, чтоб сгнить в пещере?
К чему эта жизнь, где всё живое так жалко?
Зачем превратился мир в огромную свалку?
Верь мне, сынок, всё так обернулось страшно,
Чтоб стал ты мужчиной! Чтоб воевал отважно!
х х х
В зале рукоплескания.
Сосборена в ожидании
Черного занавеса материя —
Скоро раздвинется,
И начнется мистерия.
Свет, предвещающий тьму, на склоненные головы люда
Тени бросает, и люди дремотно вздыхают,
Убаюканные предвкушением чуда.
Будущее им снится.
Мир подаёт на подносе гуся, как в детстве,
Раскланиваясь, подавал — и раздувается «Эго».
Свист оглашает сцену, вот-вот разыграется действо,
И публика, грезя о пище, собирает в трубочку губы.
Размышления
Стоял я в углу и в окошко смотрел в испуге
туда где меж сердцем и сердцем стоит преграда
туда где на нарах лежат унылые тени Гада
там сумасшедший вопя простирает руки:
«Мамочка………….
Мамочка, дай мне руку!
Будем, целуясь, играть! Всё расскажем друг другу!»
Жалкие люди, лишившиеся рассудка,
кутаются в тряпье, но даже тряпье — им бремя,
трясет их от холода, и вопиют они жутко —
да будут услышаны, прежде чем кончится время:
«Мамочка, спрячь! Я падающий листочек,
смотри, как свернулся, как зябко мне, как я гнию!»
И мощный хорал сотрясает казармы ночью,
и я, подхваченный вихрем, вместе со всеми пою.
х х х
Вы, свинцовые облака, которые ветром гонимы,
вы летящие к цели, которая вами не зрима,
образ синих небес несете вы вместе с собою
вы несете в себе пепельный запах дыма
вы несете в себе кровавое марево боя.
Вы, сохраните нас! Вы, которые только газ;
вы плывете в мирах, не ведая цели и жажды.
Я, ожидающий смерти скиталец, хочу однажды,
как вы, до будущего расстоянье — метр за метром —
измерить, но не возвращаться с попутным ветром.
Вы, облака из пепла, что на горизонте пасется,
вы — вечная наша надежда и веры знамя,
вы в грозный час затмевающие нам солнце,
гонит вас время! И день — за вами.
Вид из кафе
Это кафе — прекрасное место для жалкой натуры,
Стаканчик чаю добудешь наверняка.
Фальшивит музычка. Взираю я свысока
На колючую проволоку немецкой комендатуры.
Девушки кофе разносят — улыбка как на заказ —
И мне вполне хорошо сейчас.
Хорошо развлекаться и делать хорошую мину.
(А внизу катафалк толкая, везут мертвеца
Старики-доходяги, свою торопят кончину —
Сил уже нет, недалеко до конца.
А за спиною — зеленая богадельня,
Где от тифа десятками мрут еженедельно.)
С какой это стати сидим мы в тепле сейчас
Когда молят о крошке хлеба бессильные многотерпцы?
От всего, что творится вокруг, сжимается сердце.
Кафе аплодирует — музыканты лабают джаз.
Джаз доносит рыданье кошачье да крик вороний
Над равниной снежной. А я, всему посторонний,
Чувствую, что лечу, как от стакана стекло,
В бездну могилы, где не бывает тепло.
И обнял я дольний мир времени, вьюжного ветра,
Мир голода и нужды, простертый на километры,
Я здесь в гостях, я солнца цветок, я забрел случайно
В сей мир, который есть тайна.
Воспоминание
Неизвестная старуха в дому умирала,
Извелась умирать на жестком ложе.
Вся усохла не без помощи Божьей,
И при этом без конца бормотала.
О каком-то отрезе ситца, что гетто
Унаследует после ее кончины.
И все плакала, бедная, как бы в жизни этой
Повидать перед смертью сына.
Умирать не хотела, с тьмою сражалась,
Призывала memento последним жестом.
Отошла в ночи — тепла не осталось,
И не мог я весь день найти себе места.
А наутро пришли за тем, что осталось —
На дворе теплынь — и светло и сухо, —
И на ложе нашли четыре цветочка,
Фото сына — с ним говорила старуха —
Зажато в руке. С трудом расцепили пальцы —
Снимок порвался.
Смотрит с него лицо.
Больше я ничего не знаю.
Но я верю и уповаю,
Что мать вместе с фото сожгут.
11.4.1943
Сверху вниз
Когда я ребенком был — мир ясный был и простой:
Дерево в полую ветку как в дудку поет,
Статуя Вацлава — заживо окаменевший герой,
Луна — большеротая девочка дивной красы,
Человек растет, когда дождик вовсю идет,
В тюрьму заключенное время — это часы.
А что же сейчас?
Обезжизнело всё, красота исчезла, хотя
Любила меня и была подружкою мне.
Но снова, как из пелен вылезшее дитя,
В жизни постылой ищу красоту и вижу во сне.
Ребенку везет — любимую вещь детвора
Взглядом отыщет и там, где царит разруха.
Мне ж научиться любить мертвые вещи пора,
А для этого надо набраться духа.
Вера в ничто
Я одинок
мне снятся обманные сны
я одинок
все кровли вдали снесены
я одинок
мчатся ужасов черные тучи
я одинок
мы обломки на волнах кипучих
я одинок
полыхают воды огнем
я одинок
я упал на пороге чужом
я одинок
кости в лохмотьях кожи
я одинок
нет дыханья на бездорожье
я одинок
расцветают розы в саду
я одинок
я молчком рядом с Тобой иду
я одинок
и потому способен
обнять Тебя кому я подобен
поскольку я одинок.
Я одинок
и сказать мне хочется
всё рождается из одиночества
чтобы напиться света.
я одинок
мне нет никакого ответа
в пепле после огромного пламени
нет ничего
х х х
Жалкое я созданье — у мира прошу подаянья:
в землю меня не втопчи шагом своим слоновым,
о, не спали меня жаром своим багровым,
будь милостив, жить оставь, чтоб смог бы я возмужать
и на старой, как мир войне, мог бы я воевать.
Я голоден! Жить хочу и набираться знанья!
Выстлала мне судьба ровный и мягкий путь,
словно кулек конфет, только с начинкою мерзкой.
Я — лакомка, с жадностью детской
схватил ту конфету познанья и надкусил чуть-чуть,
а эта сладость-обманка застряла в моем зобу.
И волны жизни взъярились — ах, искушать судьбу?! —
и ну надо мной измываться. Снег из туч повалил.
И понесли меня волны, разинули рты…
Времени колесо с пылью смешало сухие цветы,
а я помню многих, многих из тех, кто здесь прежде жил.
Грудь мне дает судьба, да прогоркло ее молоко,
я и мысли мои, одиноко живущие рядом,
сосем судьбы молоко, но это нам нелегко —
оно горчит, будто дым, нам столько дыму не надо.
Жизнь и смерть
Весь мир — это жизнь и смерть:
солнечный луч, обжигающий твердь,
дикая буря в морях,
заливающая острова,
вечна любовь — кровью земля жива.
Когда в зеленую жизнь одеваются дерева
и понедельник следует за воскресеньем,
когда ветерок повторяет слова
книги, заполненной сердцебиеньем,
когда юный моряк, силы недюжинной полн,
насмерть сражается в море с гробами волн…
Кровь, вечно алая, вечно живая кровь
пока не устанет в стенах холодных биться
из праха народ восставать будет вновь и вновь
чтобы жить —
и жизни учиться.
Сердцевина черна. И это ничто — есть круг
это ничто есть пространство Бог и закон
белые облака к правосудью плывут пыля
острым градом насмешек.
А там, где Право, коричневая земля
а потом, а потом — красного цвета любовь и розовый сон!
Цвет — это всё. Серенькая река,
зеленая заводь дядюшки Века
желтой скалы тоска
чернильного круга тьма —
во Вселенной тюрьма
синее небо — лучистая вязь
черно-алая казнь.
Шло время глядя само на себя и видя
как вьется оно спиральною черной нитью
на миг застывает и над руинами виснет
и начинает петь свою песню жизни,
покуда не примется снова душить спиральною круговертью.
И тут раздастся печальная песня смерти.
Из лона Земли жизнь рождена
и с умением редким
отдается плодится себя пожирает она
себе расставляя сети.
Так задумано биоклеткой —
Время для жизни и — время для смерти.
Жизнь с удивительным постоянством
шла по своим дорогам,
чтоб овладеть пространством
и сделаться Богом.
А это и есть человек. И стал он
хозяином смерти и жизни, плеч и боков.
Время идет неустанно и странно
все по тому же кругу, по той же спирали веков.
Смерть занесла грязную руку над нашей
юдолью и над душою моей
переполняется черепа чаша
высохнет мозг и всей массой костей
крови мускул и жил
плоть закричит:
«Жизнь! Жизнь! Жизнь?!»
Время себе спиралью путь пробивает
люди рождают людей и умирают,
происходят события или они только сон
на последнем витке обрывается цепь времен
освобождая от денег и прочих пут
а нити любви в бесконечность спиралью идут.
Зденек Орнест
На распутье
Не обо что душе опереться, некуда телу волочь меня,
Некуда двинуться, негде посеять семя.
Я, над собою склонившись, стою на распутье,
Из-под ног уходит земля, гнетет меня бремя.
Тысяча незнакомцев зовут меня издалёка,
Да руки достать не могут, хоть всё мое око видит,
Дикое одиночество меня рассудка лишает,
Все ждут, когда колокол вечность пробьет.
К чему на ладонях мозоли, и опаленные лица,
Ждущие старость, чтоб помереть в свой час?
К чему увяданье и жалобное рыданье,
Леность и безразличье — что они есть для нас?
Кому мои просьбы направить, кому себя вверить?
Где мне искать спасенья, во что мне верить?
На кого положиться, и кто ко мне возвратится?
Кто смилуется надо мною и доверится мне?
Кто даровал нам жизнь, чтобы мы в ней жили?
Зачем умирать должны, когда жить охота?
А чтоб наши шаги стихли еще до похода,
Звонит по нас колокол, а мы не хотим умирать.
Склоняюсь сам над собою. Куда себя отнесу я?
Где я сейчас и где я буду потом?
Я еще здесь. И все еще на распутье.
Не знаю, за что же должен я жизнь отдать.
х х х
Ты выпьешь солнца свет и запах лета,
Ты выпьешь мира гнев и воздух воли,
Ты выпьешь острый эликсир Вселенной,
Ты выпьешь и покой и суету.
Впитаешься в любовь и в губы женщин,
Впитаешься в свеченье рек и неба,
Впитаешься ты в речь дерев и пташек,
Впитаешься ты в дождик и в зарю.
Ты станешь думать, станешь вслух молиться,
И петь, и зарифмовывать псалмы,
И поедом себя ты станешь есть,
И так в мирской потонешь красоте.
Кроха тепла
Как я завидую крохе тепла, друзья!
Когда весь замерзший смотрю я в сторону окон,
И одеяло сбросив, не чувствую холода я,
Ибо в туманные сны о тепле завернут, как в кокон.
Трудно заставить себя умываться в такой мороз.
И я обрастаю бесстыдно грязью и ленью.
Ах, дорогое тепло, о тебе я мечтаю до слёз —
Вот бы сейчас притулиться к твоим коленям!
Но стоит очнуться полностью мне от снов
И почувствовать страшный голод, как я опять
Отказаться от всех мечтаний своих готов, —
Под одеяло залезть бы — и спать, спать, спать...
Таянье снега
На черную землю падает, падает снег,
На черную землю в кровавых потеках
Ложится лениво, и лишь ветерка набег
Изредка снег подгоняет и кружит высоко.
Снег покрывает землю ковром молодым, —
Всю ее гниль и старье, и наше сиротство, —
Всё исчезает разом, как сон. И с былым
Время текущее приобретает сходство.
Мрак отступает и отдыхает глаз:
Ложится на снег солнечная позолота.
Голод притих, так изнуривший нас,
и успокоилась в наших костях ломота.
Но всё это лишь на мгновенье — и белизна,
И полный вдох, и волшебный дурман искристый.
Падает снег, и видим мы из окна,
Как превращается он в потоки воды нечистой.
х х х
Язвами угнетенное тело плачет,
Побитое семя.
Безумным галопом по нему скачет
Жестокое время.
Сердце об утлые ребра ковчега
Бешено бьется.
Из скорлупы, из темницы на волю
Выскочить рвется.

Рут Гутманова (1930-1944). Композиция.
(Опубликовано частично в журнале "Иностранная литература")
1Книга вышла в свет.
Подробности.
Вернуться к тексту. |
 Это первая публикация в Интернете стихов
детей из концлагеря Терезин на русском языке. Она предваряет выход издания
второго из четырех томов под общим названием «Крепость над Бездной». Первый
вышел в 2003 г. в издательстве «Мосты культуры», и был посвящен дневникам
узников Терезина, второй, «Я – блуждающий ребенок», освещает жизнь и творчество
детей.1
Это первая публикация в Интернете стихов
детей из концлагеря Терезин на русском языке. Она предваряет выход издания
второго из четырех томов под общим названием «Крепость над Бездной». Первый
вышел в 2003 г. в издательстве «Мосты культуры», и был посвящен дневникам
узников Терезина, второй, «Я – блуждающий ребенок», освещает жизнь и творчество
детей.1  Всего в Терезине было более 10500 детей младше 15 лет и около 2000 младше 18
лет. Из 12500 детей выжило около 1000.
Всего в Терезине было более 10500 детей младше 15 лет и около 2000 младше 18
лет. Из 12500 детей выжило около 1000. 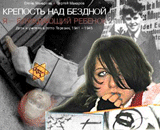
 В работе принимала участие вся комната. Но душой всего был, разумеется, главный
редактор.
В работе принимала участие вся комната. Но душой всего был, разумеется, главный
редактор.  В воскресение (раньше по понедельникам) я устраиваюсь поудобнее на нарах, достаю
из глубины полки папку с материалами, картон, коробку с карандашами, акварельные
краски, воду и т.д. Весь этот свинарник выглядит весьма живописно; в центре сижу
я с пером и бумагой на коленях. Зрелище это, если понаблюдать его с близкого
расстояния, способно вывести из себя самого раздобрейшего вожатого. Ладно,
поскольку уже от одного этого описания вам стало плохо, то продолжу. Беру два
листа, складываю их и режу пополам. Беру карандаш и по "сердечному" шаблону
вычерчиваю на титульной странице сердце. Подписываю: "Еженедельный журнал, номер
XV". Протираю ластиком и обвожу снова, чтобы все было all right. Потом
переворачиваю будущий журнал, и на обратной стороне рисую "Зандлужандо". При
этом меня трясет от злости, поскольку любопытные домочадцы во все суют свой нос
и не дают работать. Первый и главный мучитель – Гонза Корец. Он взирает на меня
свысока, стоит ощутить его хладнокровный взгляд, как из моих рук вылетает картон
– и прямо Круце по голове. Второй главный мучитель, выдающийся подлец и
злоумышленник – Мыдлайс, он постоянно бросает косые взгляды на мой "гешефт".
Есть и другие мучители, рангом ниже. Но надо продолжать дальше. Я дорисовываю
Зандлужандло, открываю краски, беру кисть, тряпку и начинаю раскрашивать.
В воскресение (раньше по понедельникам) я устраиваюсь поудобнее на нарах, достаю
из глубины полки папку с материалами, картон, коробку с карандашами, акварельные
краски, воду и т.д. Весь этот свинарник выглядит весьма живописно; в центре сижу
я с пером и бумагой на коленях. Зрелище это, если понаблюдать его с близкого
расстояния, способно вывести из себя самого раздобрейшего вожатого. Ладно,
поскольку уже от одного этого описания вам стало плохо, то продолжу. Беру два
листа, складываю их и режу пополам. Беру карандаш и по "сердечному" шаблону
вычерчиваю на титульной странице сердце. Подписываю: "Еженедельный журнал, номер
XV". Протираю ластиком и обвожу снова, чтобы все было all right. Потом
переворачиваю будущий журнал, и на обратной стороне рисую "Зандлужандо". При
этом меня трясет от злости, поскольку любопытные домочадцы во все суют свой нос
и не дают работать. Первый и главный мучитель – Гонза Корец. Он взирает на меня
свысока, стоит ощутить его хладнокровный взгляд, как из моих рук вылетает картон
– и прямо Круце по голове. Второй главный мучитель, выдающийся подлец и
злоумышленник – Мыдлайс, он постоянно бросает косые взгляды на мой "гешефт".
Есть и другие мучители, рангом ниже. Но надо продолжать дальше. Я дорисовываю
Зандлужандло, открываю краски, беру кисть, тряпку и начинаю раскрашивать.  я писать люблю и совершенно
от этого не мучаюсь, наоборот, я испытываю удовольствие. Обидно одно – некоторые
ребята такие безжалостные, что способны отравить всякую радость – даже ту,
которую я получаю от трудоемкой работы. Так вот и мужает с каждым днем
"Камарад".
я писать люблю и совершенно
от этого не мучаюсь, наоборот, я испытываю удовольствие. Обидно одно – некоторые
ребята такие безжалостные, что способны отравить всякую радость – даже ту,
которую я получаю от трудоемкой работы. Так вот и мужает с каждым днем
"Камарад". Петр Гинц стал главным редактором «Ведема» в четырнадцать лет, а в шестнадцать
был убит. После него осталось обширное наследство: романы, рассказы, стихи,
философские эссе, рисунки, литографии…
Петр Гинц стал главным редактором «Ведема» в четырнадцать лет, а в шестнадцать
был убит. После него осталось обширное наследство: романы, рассказы, стихи,
философские эссе, рисунки, литографии… 


