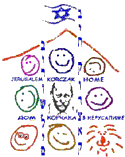См. также на нашем сайте:
|
| |||||
|
- Это вы? — привстал на кровати больной. —Вы! Не ожидал.
Откуда узнали адрес? — радостно и смущённо говорил он. Потом они стояли на лестничной площадке, ели груши, и Андрей Михайлович читал стихи. У него был ликующий, уверенный, насмешливый взгляд. Так смотрит мужчина, когда не сомневается в себе, и уже нет никаких преград. Лина не то чтобы отвела глаза, она их сделала непроницаемыми, как бы возвела заслон. «Талант или доброта привязывают нас к человеку? — думала она, слушая стихи. — Доброта тоже талант. Избегаю его взгляда, словно боюсь поплыть по течению». — Это я. Только что пришел из больницы, — позвонил Андрей Михайлович спустя три дня. — Мы встретимся завтра, сегодня допишу очерк, давно нужно было сдать. — Хорошо. А как вы себя чувствуете? — Прекрасно. — Лина! — В тот же день звонил Андрей Михайлович пьяным голосом. — Я сейчас приду к вам. — Но вы же пьяны. — Я приду к вам. — Приходите, но только в другой раз, сейчас не нужно. — Тогда вы приезжайте ко мне. Не хотите? Если не приедете, я через час буду у вас. И он приехал. Разговор не клеился. Тягостным было присутствие пьяного гостя. «Хоть бы ушел скорей», — досадовала Лина. - Я умею лечить наложением рук, — бормотал Андрей Михайлович. — У вас хронический тонзиллит, кашляете. Хотите, вылечу? Стойте прямо, не двигайтесь. Лина съёжилась от прикосновения его холодных рук. Чего не вытерпишь из вежливости. — Хотите, стихи почитаю? — И снова Лина слушала все те же стихи об ожидании любви. — Стихи прекрасные, но вы ведь мне их уже читали. — Разве? Ну хорошо, хорошо, я виноват, больше не буду. И вообще, я ухожу. Холодно у вас, и вы холодная как рыба. Вы не женщина, вы рыба. Ученая дама. — Лина, дорогая, — звонил на следующий день Андрей Михайлович, — простите меня, если можете, я так соскучился по вас. Приезжайте. Мне плохо без вас. Прошу вас. Выпьете чай и уедете. Ну что вам стоит, всего лишь полчаса. Вот и мама тоже присоединяется к моей просьбе. — Ну, раз мама, тогда приеду. Дверь открыла маленькая опрятно одетая старушка. На вид ей было лет восемьдесят с небольшим. Смотрела она приветливо, с нескрываемым любопытством. — Скромно у нас, — оправдывался Андрей Михайлович. — Библиотека была — пропил. Все пропил, только тяжелые вещи остались. Вот телевизор, например. Пишущую машинку, портативную, тоже пропил. Несколько раз покупал и пропивал. Теперь купил тяжёлую. — Указал он на огромную, довоенного выпуска машинку-танк. — Эту не пропьешь, поднять невозможно. Жалеете, что приехали? Не нравится у нас? — Вовсе нет. У вас хорошо. Хорошо, что модной мебели нет, белая скатерть. — Да?! — Обрадовался хозяин. — Хотите, я вам подарю? Что бы вам подарить? Книжку, эту и вот эту, возьмите. — Андрей Михайлович оглядывался в поисках подарка. — Пойдемте ко мне в комнату, я вам покажу картины. В его едва освещённой комнате, как в берлоге, тихо, покойно, уединенно. На подоконнике и письменном столе - давно ненужные вещи: тяжелая мраморная чернильница с отломанной крышкой и высохшими чернилами, бронзовая настольная лампа без лампочки, огрызки карандашей. Тут же, покрытые пылью, причудливой формы лесные корешки. Хозяин расставлял этюды. - «Осенний пейзаж», «Листопад», «Солнечная поляна», — перечислял он. — Вы художник?! — Почему вы удивляетесь? — Знала, что поэт, критик, оказывается, еще и художник. — Я пишу и раздаю. Хотите, вам подарю? Возьмите «Тополиную рощу», она самая удачная, прошлым летом писал. - Мне больше нравятся «Первые заморозки». Как точно передано холодное желтоватое небо, тонкий, сползающий с крыши снежок, схваченные морозом листья на кустах, даже будто слышится их шум на ветру. Сколько у вас этюдов! Этюды, этюды — вдохновение на час. Андрей Михайлович, почему вы серьезно не работаете? Хозяин засмеялся: - Пойдёмте лучше чай пить, а то все мне говорят одно и то же. - Почему обязательно нужно принести себя в жертву искусству? — размышлял за чаем Андрей Михай лович. — Почему просто не жить? «Зачем требовать от людей большего, чем они могут», — урезонивала себя Лина. — Что же вы ничего не едите? Колбаса, сыр, варенье, пироги, — угощал хозяин. — Мать, ты что же мед не дала? Мед удивительный, самый что ни на есть натуральный, с пасеки привезли. — Андрей Михайлович налил и придвинул Лине полное блюдце прозрачного золотистого меда. — В самом деле, необыкновенный, — хвалила гостья. — Я вам покажу мамин портрет, — встал из-за стола хозяин. — Вот смотрите: за два часа написал. Смотреть было не на что. Розовая размазня с рыжими пятнами глаз. — А вот еще портрет нашего главного редактора. «Не удался и этот, - отметила про себя Лина, - да и странно было бы, если бы удался: портрет не этюд, сходу не возьмёшь». — Вы слишком много думаете, — говорил Андрей Михайлович, провожая гостью к метро, — все умом хотите постичь, мыслитель в вас забивает женщину. Теряется непосредственное чувство жизни, краски ее, запахи. Вы вся в себе. Замечаете хоть времена года? Сейчас зима, скользко, темно, мы идем рядом и греем друг друга. Почему вы спешите уйти, вам не понравилось у нас? — Ну что вы, у вас хорошо, уютно. Я еще приду, если позовёте. На том и простились. Андрей Михайлович не звонил. До Лининого визита он звонил по несколько раз в день: «Что вы сейчас делаете? Как выглядите? Как чувствуете себя?» Не то, чтобы Лине очень уж интересно было отвечать на подобные вопросы, просто не хватало чьего-то участия. Выждав неделю, она пошла в редакцию. Снова, как в прошлый раз, Андрей Михайлович с усталым, потухшим лицом сидел за столом у двери и считывал корректуру. Заговорили о пустяках, о служебных перемещениях, о прогнозе погоды, и вдруг, глядя в никуда, он произнес: — Я, когда в метро смотрю на приближающийся поезд, спешу поскорей пройти на середину платформы: меньше искушения. Лина замерла. Как же ему одиноко и плохо! Собеседник представился потерянным ребенком, впервые столкнувшимся с задачами, которые ему не по силам решить. Кем и чем он живет? Дочка взрослая, и всё меньше нуждается в нем. Бывшая жена, с которой, по его словам, прекрасные отношения, дама самостоятельная — директор то ли музея, то ли крупной библиотеки. Стихи? Но у него их наберется десятка два, не больше. Живопись? Но и здесь всего лишь то, с чего начинают. Андрей Михайлович как-то рассказывал об умершей любимой женщине. Ничего в ней особенного не было, просто необыкновенно добра. Тогда, с ней, он не пил. «Ему не хватает доброты!» - осенило Лину. На этом она и попалась, мышеловка захлопнулась. Уходили из редакции вместе. По удивленному взгляду спутника Лина поняла, что очень уж крепко держит его за руку. Шли молча, не глядя друг на друга. Было непривычно покойно. Лина чувствовала себя нужной, как в те времена, когда была незаменима для маленькой беспомощной дочки. Может быть, сознание своей необходимости и есть любовь? -- Мне плохо, — звонил утром Андрей Михайлович. «Значит, вчера, как ушел, напился», — поняла Лина. — Что делать? — Спрашивал Андрей Михайлович. — Если можете собраться с духом, идите на работу, а то уволят, у вас уже несколько прогулов. Потерпите, через час -другой легче станет. — Нет, на работу не могу. Я к вам сейчас приеду. Дочка в школе? — Ну да, — рассеянно отозвалась Лина. Андрей Михайлович приехал пьяный, едва держался на ногах, и тут же растянулся на постели: — Не трогайте меня, я сейчас усну. А вообще, женщины в таких случаях бегут за бутылкой. — Может, вам полечиться? — неуверенно спросила Лина. — Оно бы, конечно, хорошо, но где взять деньги? Курс лечения двести рублей стоит. Потом еще нужно платить. — Я дам. — Откуда у вас? — Бабушка оставила несколько золотых монет, можно продать. На лечение бабушка не пожалела бы. — Как вам удалось сохранить эти деньги? — То даже и не деньги. Эти монеты через всю войну прошли. Голод, холод, не на что купить хлеба, дров, а бабушка так и не продала их. Всё боялась черного дня, совсем уж черного. — Сокровище вы мое! — Ликовал Андрей Михайлович. — Вот уж поистине русская женщина. — Да не русская я, не русская. — Какая же? — Еврейка. — Вот уж никогда не подумал бы! Совсем непохожа. Наоборот. Классический тип русской женщины. По правде говоря, евреев я не люблю, но вы исключение. Вы моя спасительница. «Любовь — мечта о том, чего не бывает, — ни раз думала Лина. - И еще любовь — жалость. Слова эти, в некотором смысле, синонимы. Любить — жалеть». -- Солнышко ты мое, — нежно шептал Андрей Михайлович, целуя Лину. Та неуверенно, с опаской отдавалась его ласке. Андрей Михайлович принялся за дело своего излечения серьезно. Не пил, каждый день ходил на уколы, и для надежности, боясь сорваться, все время ходил за Линой: словно маленький, держался за мамкину юбку. Когда Оля уехала в пионерлагерь, и вовсе переселился к Лине. Они вместе готовили обед, ходили в кино, ели в сквере мороженое. Вот только Лину не покидал страх, как бы чего не случилось с Олей. Она уже свыклась с тем, что счастья в этом мире ей не отпущено, и потому опасалась, что краткий, словно украденный, миг дан ей в счёт непредвиденных бед. Дальше боялась думать, но всякий раз, поставленная перед необходимостью выбора, она выбирала благополучие ребенка. Андрей Михайлович смотрел влюбленными глазами и говорил: — Будь моя воля, мы бы уехали куда-нибудь далеко-далеко. — Мы с тобой как молодожены, — смеялась Лина. — Мы и есть молодожены, — уверял Андрей Михайлович, — это наш медовый месяц. До месяца не дотянули. Андрей Михайлович напился. Пришел злой, вытащил из портфеля бутылку с пивом и стал метаться по комнате в поисках, чем бы открыть. Открывалку не нашёл, попробовал ножом — не получилось. Дрожащими от нетерпения руками схватился за вилку, но алюминиевая вилка тут же погнулась. Он отшвырнул её и стал открывать прямо зубами. -- Подожди, что ты делаешь?! — Пыталась отнять Лина бутылку. Но Андрей Михайлович в нетерпении кусал, стаскивал зубами металлическую нашлепку — не получалось. Стал стучать об зубы как о жесткий край стола. Наконец нашлепка отлетела, и Андрей Михайлович, запрокинув голову, судорожно глотал пиво. По губам на подбородок текла кровь. Так он и стоял с запрокинутой головой, пока бутылка не опустела. — Ну вот, теперь полегчало. Ты не думай, я не пропащий человек. Видишь, домой принес. Все тихо, мирно. Давай посидим вдвоем. У самовара я и моя Маша, — недобро хохотнул Андрей Михайлович. — Выпей со мной, — и он достал из портфеля почти опорожненную бутылку водки; на донышке чуть-чуть плескалось. — Выпей! Чего целку из себя строишь? Эх, не русская ты женщина. А я выпью. Свободный человек, чего хочу, то и делаю. Понимаешь? Ничего ты понимаешь! Дай тридцать рублей, я тут одному должен. — От тех денег, что мы получили за монеты, осталось пять рублей. — Займи у кого-нибудь. — А с чего отдавать? Я не работаю, и тебя уволили. — Верно, отдавать не с чего. Выкупи мой ковер из ломбарда. Выкупи и возьмешь себе, а то пропадет. — Мне не нужен твой ковер, да и денег нет, ты же знаешь. — Знаю, — мотнул головой пьяный Андрей Михайлович, — и бутылки мне не купишь. На следующий день с утра он ушел в профилакторий делать свой наркологический укол, и не вернулся. Лина несколько раз звонила ему домой — никто не подходил к телефону. Значит, запил. Его мать рассказывала, когда срывался, она не выдерживала этого зрелища и уходила жить к старшему сыну. Должно быть, и сейчас ушла. А вдруг заболел? Вдруг с сердцем плохо? И Лина поспешила на другой конец Москвы. Позвонила в дверь. Тишина. Никаких признаков жизни. Открыла своим ключом, Андрей Михайлович дал ей его на случаи, если ему будет плохо и он не сумеет открыть дверь. Из прихожей Лина заглянула на кухню: на столе два стакана и пустые бутылки из-под бормотухи. Тут же заметила, что в гостиной нет телевизора. Значит, продал. Быстро прошла в комнату Андрея Михайловича - и... Они лежали на тахте мертвецки пьяные в обморочном сне. Он, и совсем юная, с испитым лицом девочка, ненамного старше Оли. Он тяжело храпел открытым ртом, а худенькая, синюшная, как ощипанный цыплёнок, девочка лежала в неудобной позе, подвернув ногу. Лина стояла, словно окаменевшая, и почему-то не могла отвести взгляда от грязного большого пальца на ноге Андрея Михайловича. Потом ощутила тошнотворный запах блевотины и грязного белья. Конец. Все мертво. Пусто. «От тебя все несчастья!» — не раз кричала Оля. «Так, наверное, и есть, — думала Лина, — рождаются же такие неудачники. Говорят, если они попадают на корабль, то приносят беду. Их сразу распознают и бросают за борт: распознать нетрудно по застывшей скорбной маске на лице. Соседка Галя Аниканова устроила Лину пожарником в ресторан «Арбат» на Калининском проспекте. Должность эта называлась «старший инструктор по противопожарной безопасности». Обязанности старшего инструктора исчерпывались тем, что каждые три часа он обходил недра ресторана. Холодный цех, с будто приросшими к длинным, обитым жестью столам, дробильщиками мяса и овощей. Горячий цех, там орущий на нерасторопного поваренка, снуёт, как челнок, между раскаленными противнями и кипящими котлами, ошалевший повар. В коренном цеху низко склонившиеся женщины чистят лук, целые груды лука. Каждые три часа Лина звонит в штаб пожарной охраны с докладом, что на объекте всё в порядке. Спать в штабе укладываются рано, последний звонок приходится на время программы «Спокойной ночи, малыши». Жизнь в ресторане начинается в шесть утра. Заспанные уборщицы яростно орудуют швабрами — моют полы. К семи они собираются в подвале у железной двери мясного склада. Ждут продавщицу Семёновну. И Лина пристраивается к ним. Здесь по дешёвке можно отовариться ливером, куриными потрохами. Семёновна не спешит. Женщины согласно кроют ее матом и гадают, что сегодня будут давать: печень, вымя, а может, легкое или рубец выбросят. В прошлый раз рубец еще до открытия коренщицы унесли; кто не возьмет — двадцать копеек за килограмм. Наконец, появилась толстомясая, румяная Семеновна. В собольей шапке и надетом поверх пальто белом халате. Очередь сразу смолкла и выстроилась вдоль холодной, облицованной плиткой стены. Хозяйка ливера зло пнула стоящий под дверью ее владений деревянный ящик - тару из под масла. На ящике только что сидел кто-то из очередников. Отомкнула тяжелый навесной замок и распахнула дверь. Очередь благоговейно молчала. В любую минуту Семёновна могла уйти, или задвинуть под прилавок свой дефицитный товар. А могла и выдвинуть перед присмиревшими женщинами полный бак говяжьего сердца, который расхватывали вмиг. Лина не смотрит на Семёновну — стыдно своей зависимости от неё. Лучшие часы на службе пожарника — после вечернего обхода. Можно закрыть дверь на крючок, и до утра - время твоё: читай, пиши, думай до изнеможения. Правда, за фанерной перегородкой, отделяющей закуток пожарника от раздевалки официантов, слышатся их голоса: — Курва, опять с Васькой была. — Не была. — Была. — Не была. — Ты мне бельмы не заливай, Федька сам видел. — Не видел. — Да здесь же, в раздевалке, трахались. — Врёт он всё. Слышалась возня и визг. Должно быть, ревнивец душил свою Дездемону. — Гад! Сегодня же вышвырну из дома твой чемодан. Спустя час-полтора те же голоса: — Ну ладно, чего хочешь? — урчал жидкий тенорок, и по тому, как зашаталась фанерная перегородка, было ясно: официант приложил к ней даму сердца. — Хочешь, куплю сапоги? — Не-е-е, — всхлипывала обиженная добродетель. — Сто рублей дам, хочешь? — Не-е-е. — Скажи, чего хочешь? — Стенку купи. — Куплю. А домой приду, кухню порушу. — Кухню не трожь. — Нет, порушу. Сначала порушу, потом куплю. Последовал громкий поцелуй и согласное сопенье. Чем плоха работа пожарника? Раскроешь книгу, зажжешь настольную лампу — и кайфуй. Остаток ночи спишь на сдвинутых стульях под телогрейкой. Не жизнь, а малина. «Мудрец, питаясь хлебом и водой, состязается в блаженстве с Зевсом» — утверждал Демокрит. Но ровное расположение духа сменялось отчаянием. В одиночестве человек начинает сомневаться в своем праве на существование. Приучить себя обходиться малым нетрудно. «У раба, — говорил Аристотель, — на первом месте тело, у свободного — душа». Но тот же Аристотель замечал и обратное: «Чем больше человек пренебрегает плотью, тем больше становится её рабом». Отшельническая жизнь постоянно возвращает к самому себе; воображение питается всего лишь собственными домыслами, будто пьешь собственную кровь. Уединение, по мнению Ницше, делает мысль свободной. Неправда, наедине с собой занимаешься самоедством. Бесплоден отделенный от жизни разум. Особенно тяжело, когда мысли разрознены, и никак не можешь избавиться от навалившейся тупости. В такие минуты ты ни к чему не причастен, всё проходит мимо, жизнь уходит из тебя, ты пуст. Намеченные ранее планы, записи теряют смысл и незначительны до такой степени, что от сознания своей бездарности хочется удавиться. В минуты подобного омертвения души Лина рвёт свои бумаги и радуется, что никто не будет свидетелем ее никчемности: «Нет мне права на жизнь». - «Господи! — кричит она. — Не скрывай от меня лица Своего! Я без Тебя ничто — прах, взятый из земли, который опять смешается с землей. Господи! Сделай легкими мои мысли, освободи от страха за ребенка. Пусть у детей всё будет хорошо, чтобы не болела душа за них. Тебе известны мои грехи: часто у меня не хватает сил сдержать гнев и недостает ума приобщить дочку к мудрости и добру. Прости немощь мою и помоги постичь Твоё, творящее мир, Слово». *** Летом в жару тяжело в городе. День тянется медленно, на улицах размягченный от зноя асфальт, народу мало. Лина заглядывает в глаза прохожим, ищет в них страдание. Однажды увидела в синих провалах глаз нестерпимую муку, но то оказались её глаза, отраженные в зеркальной витрине магазина. С тех пор она знает, что стала похожа на горбуна: только в глазах горбуна бывает такое пронзительное отчаяние. Оленька в пионерском лагере. Аникановы на даче. Под дверью орут старухины кошки. Ничего сегодня им Лина не принесла, едва хватило денег на одну рыбину для себя. Купленный хек оказался несвежей треской. Оттого, что и тут обманули, она почувствовала себя вконец несчастной. Рыбину сварила и пытается есть, но кусок застревает в горле. Мечется по комнате, хочет отождествиться, если не с людьми, то хотя бы с вещами. Стискивает в руке стакан, чтобы почувствовать его твердость, но стекло не причастно, оно само по себе. Даже вода из крана, которую пьёт, не растворяется в ней, а застывает сначала длинной эластичной струёй, потом становится\падает тяжелым комом. «Нужно зайти к старухе, отдать кошкам оставшуюся рыбу», - соображает Лина. Но не может она их сейчас видеть, хватило бы сил на самоё себя. Тщетно пытается уснуть. Так, наверное, ерзают на раскаленных сковородках грешники в аду. Забыться бы. Горбун пытается вызвать детские видения — стадо тёмно-красных коров на зеленом лугу, но только непроглядная чернота обступает его. Невозможно вырваться из этого мрака, хоть бы вырисовался какой-нибудь контур дерева. Протягивает руку — пустота, трогает землю вокруг себя — холодная, обледенелая галька. Где-то далеко вспыхнул огонек и тут же потух. Утром на улице идущая навстречу дворничиха с пустым ведром, найденный гривенник, решкой кверху, женщина в черном платке – пугали, казались зловещими предзнаменованиями. Горбун, цепенея от ужаса при виде низко летящей вороны, услышав её карканье, боится войти в свою подворотню, ему кажется, что там его ждет человек с каменной головой. По ночам просыпается от собственного крика: «Не бейте меня!» В жизни случаются просветы. Лина послала свои тезисы на конференцию по проблемам формирования творческого мышления в Симферопольский университет. Сопроводительную записку с указанием анкетных данных и места работы не приложила, написала лишь обратный адрес. Отослала и, не надеясь получить приглашение, забыла. Когда же в начале сентября в почтовом ящике обнаружила конверт с извещением о том, что тезисы напечатаны и конференция состоится в конце месяца, не поверила своим глазам. Семья Аникановых, хоть и выражала пренебрежение к Лининым ученым занятиям, не находя в них проку, увидев бумажку с печатью, зауважала. Аниканова сказала: «Вдруг, и вправду, будешь большим человеком», и не только одолжила деньги на дорогу, но и обещала присматривать за Оленькой. Если случится человеку при жизни попасть в рай, то у Лины этим раем оказалась целая неделя на берегу Черного моря, в Алуште, где разместили участников конференции. В бархатный сезон все хотели попасть на море, но отобрали и напечатали, в основном, тезисы профессоров. Она случайно затесалась в их компанию. Хорошо, не написала анкетных данных, отборочная комиссия истолковала этот факт как рассеянность. Соседкой в огромном роскошном номере гостиницы оказалась очень доброжелательная дама, доктор философских наук. Они вместе ходили на пляж, в столовую, где обслуживали изысканно вежливые официанты. Придешь с научного заседания, и словно по щучьему веленью - обед на столе. Вечером вернешься с моря, — тебя ужин ждет. Как в сказке. — Ты почему по ночам кричишь? — спрашивала Тамара Григорьевна. Лине по-прежнему снятся кошмары. Начинающийся рассвет за окном видит будто со дна глубокого каменного колодца, чувствует, как уходят силы в этот толстый, непробиваемый гранит. Под босыми ногами — утоптанная до каменной твёрдости земля, из которой не растёт ни одной травинки. На открытии конференции выступал очень старый академик. На трибуну его выводила жена — дебелая молодуха; академик болтался у неё на плече пустым ридикюлем. Говорил он долго, без конца повторял слово «деятельность», «деятельностный подход». Очень уж упрощенно у академика все получалось – в аспекте марксистско-ленинской методологии. Проблема «деятельности» актуальна во всем мире, но решается она путем осознания каждым своих возможностей: выбора себя. «Выбрать себя, - думала Лиина, значит выбрать дорогу длиною в жизнь. А марксистско-ленинская философия никуда не ведет; тут чувствуешь себя зэком: шаг в сторону – расстрел. А впереди – стена. И что же тогда остается человеку с его представлением бесконечности, причастности миру сущности идей? Спиноза говорил: бессмертен разум, разумная часть души. А наши чувства, влечения, страдания служат для понимания себя, своего назначения. По Платону восприятие действительности основывается на воспоминании. Но почему один вспоминает одно, другой – другое? Значит, я когда-то в другой жизни была озадачена теми же проблемами, что и сейчас. Или, быть может, приобретенный в предыдущей жизни, путем учения и опыта разум, явился трамплином нового воплощения. Однако, сколько бы ни думала, ни читала, не покидает ощущение своего бессилия – не постигнуть человеку замысла творения. Значит, только и остается, что стремление к познанию…» Лина и не заметила, как начался перерыв. Все сразу зашумели, задвигались, заговорили. Соседи, оглядываясь, нет ли поблизости тех, для чьих ушей не предназначены их слова, стали пересмеиваться по поводу того, что теперь «деятельность» окажется основой всех исследований; и «деятельностный подход» будет осуществляться к месту и не к месту - в философии, социологии, психологии». Так и случилось. В течение ближайших десяти лет в общественных науках занимались «деятельностью». Потом забыли - академик умер. Лина тоже делала доклад, говорила о соотношении сознательных и бессознательных моментов в творческом мышлении. В отличие от академика, говорившего полтора часа, ей дали десять минут. После доклада подошел редактор философского журнала, и очень любезно, будто она невесть какая знаменитость, попросил написать для них статью. Она, конечно, написала, и статья, в самом деле, была опубликована. Удивительное везение. С первого дня конференции Лина искала взгляда худощавого, с подвижным, выразительным лицом Георгия Канделаки. Так он ей представился, когда подошел к Тамаре Григорьевне, с которой был давно знаком. «Чем он лучше большого, красивого редактора философского журнала?» — спрашивала себя Лина. У редактора много плоти, а быстрый в движениях, с телосложением подростка, Георгий казался средоточием духа. Над высоким лбом седые легкие волосы, светлые умные глаза и улыбка инопланетянина — открытая, радостная. Никогда не видела таких красивых зубов, даже неправдоподобно, чтобы у человека, которому за пятьдесят, были такие девственно-непорочные зубы. Он знает об этом, иначе не одаривал бы всех вокруг своей широкой улыбкой. Лина ревностно следила, к кому из присутствующих в зале летели его приветствия, и с тоской отмечала — она не единственный адресат. Хорошо хоть, у Георгия небольшой выбор — на философских конференциях, как правило, мало женщин. — Из рода священнослужителей, князь, — сказала о нем Тамара Григорьевна, — «Канделаки» в переводе означает «свечкодержатель». Его предок похоронен в первом храме. Пятый век! Представляете? Лина была на седьмом небе от счастья, когда, после её доклада, грузинский князь долго благодарил за то, что она, занимаясь проблемой бессознательного, работает в русле грузинской философской школы. В гостиницу ехали втроем. Ехали не на автобусе, а в такси. По дороге Георгий купил женщинам ведро огромных красных яблок, а вечером пригласил их в ресторан. Тамара Григорьевна отказалась. « Не потому, что муж ревнивый, — смеясь, объясняла она, — мы с ним уже не в том возрасте, скоро внуков женить будем. Завтра доклад делаю, нужно подготовиться.» Лина, конечно же, согласилась, только предложила сменить ресторан на столовую. — Здесь ужасно дорого, — сказала она своему кавалеру, когда они направились к ярко освещенному курортному ресторану, откуда доносилась оглушительная музыка. — Что вы называете дорого? — Ну, наверное, рублей двадцать понадобится. — Помилуйте! — воскликнул князь. — Неужели профессор не может пригласить коллегу поужинать?! — На двадцать рублей можно целый месяц жить. — Вай! — изумился грузин. — Что говоришь?! В ресторане их посадили за длинный стол с пьяной компанией. Других мест не было. - «Друг!» — икал в лицо потомку древних священослужителей мужик в расстегнутой до пояса рубахе. - “Не смотри, что я рабочий. Я советская власть! Уголёк добываю! Приезжай к нам в Донбасс, сам увидишь. Приезжай, говорю! Слышь? Дай лапу! Вот так! Побратаемся!» Потом пьяными голосами орали песни: «Летят утки, летят утки и два гуся...» Георгий тоже пел, пел с русской протяжной тоской, надрывом. Словно и не был грузинским князем, а родился и вырос в бедной русской деревне. Вечером Лина вернулась в номер нагруженная кульками пирожных, конфет, персиков. «Для вашей подруги» — сказал Георгий, взгромоздив на пакеты огромный гранат. — Какой добрый! — говорила Лина Тамаре Григорьевне. — Добрый. — согласилась та, и добавила: - Судя по всему, вы не очень избалованы. Утром следующего дня ехали на последнее заседание. Тамара Григорьевна раскрыла сумку со вчерашними дарами: яблоки, персики, конфеты вперемешку с раскрошившимися пирожными. Лина достала персик. — «Надо бы стряхнуть с него крошки, — подумалось ей, — обтереть платком или салфеткой», — но пожалела выбрасывать даже крошки, и стала есть прямо так, с прилипшими остатками пирожных. Грузинскому князю стало не по себе от этой неопрятности, означавшей давнишнюю нужду его спутницы. — Почему мучаешься? — спросил Георгий на прощанье. — Приезжай защищать диссертацию в Тбилиси. Он больше не улыбался. Снова Москва, и снова бесплодные поиски работы. Несколько лет назад Лина защищалась от жизни и своего неустройства ребенком. По вечерам шла в ясли за дочкой. Оленька ждала маму. Стояла в раздевалке и смотрела на дверь. Как только мама входила, Оля бросалась к ней, Лина подхватывала дочку на руки, и они несколько мгновений не могли оторваться друг от друга. «Будет вам обниматься, — ворчала нянька, — одевайтесь, здесь и так тесно, повернуться негде». Послушная няньке, Оля разжимала объятия, и тут же вспоминала, что у нее в кармане фартучка припасено для мамы яблоко. Все дети съели за полдником, а она оставила. Иногда в кармане лежал раскрошенный зефир или печенье. На улице Оля крепко держит маму за руку, и они идут, - и их только двое в целом мире. В сквере женщины, сидящие с детьми, говорили: какой ласковый ребенок. В самом деле, Оля не отходила от мамы, положит голову ей на колени, и стоит. — Оленька, — упрашивает Лина, — пойдем играть, куличик тебе сделаю, дом построю, — и Оля нехотя топает за мамой к песочнице. Укладываясь после ужина спать, она держится за мамину руку. Лина рассказывает ей сказки, и дочка медленно засыпает. Лина пытается тихонько высвободить руку, Оленька тут же стискивает ее крепче. Иногда просыпается, и начинается ужасный рев, — понимает, что мама хотела уйти. Но чаще Лина сидит до тех пор, пока Оля во сне сама не разжимает ручонку. Теперь, когда Оля ходит в девятый класс, отношения разладились, она всё чаще выговаривает маме, что в английской школе, где она учится, у всех всё есть, только у неё ничего нет. — Что ты называешь «все есть?» — спрашивает Лина. — Сапоги, дубленка, магнитофон, — перечисляет Оля, загибая пальцы. — Но и у меня нет сапог. - Это меня не касается. Нет, значит, тебе не нужно, а мне нужно. Мне стыдно, у меня у одной старое, перешитое из чужого пальто. В нашем классе на переменах едят бутерброды с икрой! — сначала кричала, потом плакала Оля. Девочка с завистью поглядывала на семью Аникановых, как они дружно в четыре руки стряпают обед. Галя закручивает голубцы, муж разделывает баранью ногу, все конфорки заставлены их кастрюлями. И разговоры у них понятные, про то, что в этом сезоне моден каблук танкеткой, про марки телевизоров, колбасу. «Колбаса по три шестьдесят - это не то, — ворчит Галя на своего мужа, принесшего сумку с харчами, — вот финский сервелат - это да, и вкус, и мягкая, и специи». Сын Аникановых Алеша представлялся Оле обладателем всех земных благ. «Будь моим папой», — сказала она, еще когда была маленькой, Аниканову старшему. — У других детей родители как родители, а ты ничего не можешь! — кричала Оля. — Мне стыдно нищенкой ходить в школу. У нас один свитер на двоих. Это тебе ничего не нужно, грызешь свою философию, а мне нужно: сапоги, джинсы, мебель нужна, и ковер на пол, и на юг, как все, хочу ездить. А философия твоя не нужна. Написала кандидатскую, пиши докторскую, только на бумаге помягче, а то в туалете бумага кончилась. — Отсталый ты человек, — наставляла Лину соседка, — пойми свою дочь, раз уж отдала в английскую школу, нужно и одевать соответственно. Это раньше тряпки не имели значения. Все свободное время Оля проводит с соседями, смотрит у них телевизор, треплется о моде. У Аникановых всё хорошо, вот только сын - балбес, не хочет учиться. «Ничего, — хлопает его по плечу Аниканов старший, — философом ты не будешь, а человека я из тебя сделаю. Что философы? Пустое место. Из слов шубы не сошьешь, и живут они на гроши, я на пиве больше пропиваю». Оля слышала эти разговоры и делала соответствующие выводы. — Ты отброс общества! — кричала она Лине. — Тебя соседи, как нищенку, нанимают полы мыть. Возразить было нечего, разве что мыть полы в другом месте. Но самое страшное - Оля, как и соседский мальчик, не хотела учиться. — Зачем? — говорила она. — Ты всю жизнь сидишь за книжками, а чего ты добилась? Десять лет одну юбку носишь. Лина с тоской вспоминала Олю ребенком, когда она в первый раз уезжала от неё с детским садом на дачу. Автобус тронулся, а Оленька все машет. Лина бежит за автобусом, дочкин нос расплющился об оконное стекло. Родителям на дачу ездить не велят, потому что дети волнуются, плачут. Родители всё равно ездят. Ползают под забором, высматривают своих деток издали, узнают по платьицу, штанишкам. В один из воскресных дней в конце лета Лина сидела под забором в зелени кустов, и так же как и остальные истосковавшиеся мамы и папы, ждала окончания тихого часа. Все как-то особенно приветливо поглядывали на высокого старика, отставного полковника, с полевым биноклем. Когда он насмотрится на своего внука, можно будет попросить у него бинокль, глянуть хоть одним глазком и на своих. Нет сил ждать окончания послеобеденного сна, и Лина умоляет воспитательницу разрешить посмотреть хоть на спящую дочку. — Ну ладно, — соглашается та, — загляни в окно. |
||||||
|
|
||||||