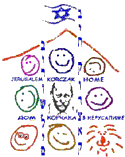См. также на нашем сайте:
|
| |||||
|
*** — Почему я не стал Наполеоном? — не столько к посетительнице, сколько к самому себе обратился главный редактор толстого художественного журнала. — Потому что самое лучшее время в моей жизни — это когда служил в армии солдатом. Солдат - не генерал, не нужно думать, принимать решения. Правой! Левой! Кругом! Шагом марш! Вот и вся философия. И ни за что ты не отвечаешь. Лина сидела в глубоком мягком кресле, держала в руке изящную чашечку с кофе и слушала рассуждения главного редактора — хозяина огромного, красиво убранного кабинета по поводу «свободы и бессмертия души». — Свобода, — говорил собеседник, — когда от тебя ничего не зависит. Почему я люблю Толстого? У него что комар, что юнкер Оленин — все едино. Помните, Пьер Безухов увидел себя во сне круглой каплей, капля сливалась с целым, и Пьер почувствовал себя частью Вселенной. Причастность части к целому - это и есть свобода, бессмертие. И требуется для этого всего лишь отказаться от своего «Я», от своей так называемой неповторимой индивидуальности. Лина пришла в редакцию журнала с улицы. Проходила мимо, прочла вывеску, и зашла. Зашла оттого, что промочила ноги. На улице снег, слякоть, холод. Захотелось побыть в тепле, и повод нашелся — спрошу работу. — Работу? — Переспросила секретарша главного редактора, она была первой, кого Лина здесь встретила. Подчеркнуто официальная дама предпенсионного возраста смотрела на пришелицу так, словно та с луны свалилась. — Ну да, — подтвердила Лина. — А вы, собственно, кто? — Если вы имеете в виду специальность, я окончила философский факультет, — Да?! — Секретарша даже как-то вытянулась от почтения. — Я сейчас доложу о вас Константину Михайловичу. И тут же распахнула перед Линой дверь, словно приглашала в апартаменты короля. «С чего бы это?» — удивилась Лина. Слушая главного редактора, поняла: тот маялся философским складом ума, и требовался собеседник, о чем не могла не знать секретарша. — Да вы пейте кофе, расслабьтесь, — улыбался Константин Михайлович, — хотите коньяку? Сейчас нам Галина Петровна свежих пирожных принесет. Любите жульенчики? Это такие маленькие кругленькие пирожные с кофейным кремом. Замечательная штука! «Они с Галиной Петровной примерно одного возраста, — соображала Лина, — только секретарша худая, быстрая и чёткая, как автомат; а патрон -спокойный, медлительный, склонный к полноте». — В юности, — говорил главный редактор, — я думал: только страсть спасет от пустоты, и жил соответственно. Теперь разделяю мнение Толстого — счастье не зависит от внешних обстоятельств, а всего лишь от нашего отношения к ним, и человек, привыкший к страданиям, не может быть несчастлив. Вы согласны со мной? — Нет, — резко ответила Лина. Она смотрела на пушистый, связанный из вишнёвого мохера, жилет главного редактора. — Что вы имеете в виду? — собеседник наткнулся на неожиданное препятствие своим мыслям. — Не согласна. Философия Толстого неубедительна, потому как безнравственно, будучи богатым, проповедовать нищенство. Вы не видите парадокса в том, что Толстой, при жажде отрешения, окружен заботой любящих домочадцев, а Кьеркегор, при страстном желании участия и любви, страдает от бесконечного одиночества. Толстой, как и его герои, лукавил, шел на сделку с совестью, а Кьеркегор предъявлял к себе абсолютные требования. Его неприятие мира объясняется бескомпромиссностью, чего нельзя сказать о Толстом. — Кьеркегора не читал, — благодушно развел руками Константин Михайлович, — обязательно прочту. А вы как ко мне попали? — С улицы. — Да что вы говорите?! Бывает же такое. Но это ничего, даже к лучшему. Как-то странно, непривычно видеть человека из ниоткуда. Мы вас возьмем в отдел прозы. Будете читать самотек. Я всегда утверждал, что нам нужен философ, именно философ, а не филолог. Правильно я говорю? — Вам видней. Четко печатая шаг, вошла секретарша с коробкой пирожных. — Попросите, пожалуйста, ко мне Валентину Спиридоновну, — обратился к ней главный редактор. — Это наша заведующая отделом прозы, — пояснил он Лине. При этом нельзя было не заметить: воодушевление, с которым главный начинал разговор, иссякло; лицо его с мелкими, мягкими чертами поскучнело, стало отсутствующим. Сейчас он выполнял всего лишь организационную часть работы. В комнату вошла женщина на высоких каблуках с высоко поднятой головой, словно внесла свое достоинство. — Валентина Спиридоновна, к вам в отдел новый сотрудник, — указал на Лину главный. — Очень хорошо, — проговорила заведующая отделом прозы, едва взглянув на посетительницу, — но, Константин Михайлович, мы же даём претендентам текст на пробную рецензию. — Да, конечно. Есть у нас такой формальный момент. Лине показалось, что разговор о ее трудоустройстве исчерпал себя, и ей больше не доведется бывать в этом праздничном, обитом свежим деревом кабинете. Она оставила уютно пригревшее ее кресло, оглянулась на красивую седину главного и пошла за заведующей прозой. В коридоре Валентина Спиридоновна сразу утратила свое величественное достоинство и по-свойски заговорила о том, что, когда на улице такая слякоть, у нее бессонница и поясницу ломит. — Попробуйте перед сном принимать горячий душ, - посоветовала Лина. — Да нельзя мне горячий. — Еще корвалол помогает. — Пью. А вы не страдаете бессонницей? — Когда как. — Вот и подружимся с вами на почве бессонных ночей, — усмехнулась Валентина Спиридоновна. Лине стало неловко оттого, что она моложе, красивее собеседницы, ей можно принимать горячий душ, и бессонница не самое большое несчастье в ее жизни. Подумала она еще и о том, что никогда не дружила с начальством, а если такое случится, то не станет злоупотреблять хорошим отношением, будет служить верой и правдой. Только бы взяли. Лина несла в редакцию журнала первые тщательно обдуманные рецензии, как несут из леса уехавшие с ночи грибники полную корзину отборных белых грибов. Но, увы, рецензии на две толстые рукописи не удовлетворили Валентину Спиридоновну, то есть она их и не читала, ибо не было выполнено мягкое наставление начальницы - дать отрицательные отзывы. На первый роман Лина написала отрицательный, там речь шла о лихих казацких сражениях; трещали пулеметы, мелькали сабли, катились отрубленные головы — тарабарщина, одним словом. А второй роман Лине понравился. Автор прошел войну с первого до последнего дня, и писал о войне, как о тяжелой будничной работе. Постоянная готовность к смерти тоже стала привычной, будничной: если солдатам выдавали на неделю двести граммов масла, они его съедали в первый же день: никто не знал, останется ли он в живых завтра. — Вы представляете, что будет, если мы начнем печатать самотек? Да мы за одну неделю получаем двадцать таких романов. В конце концов, можете писать, что хотите, только в заключительной фразе сошлитесь на несоответствие рукописи тематике нашего журнала или отсутствие четко выраженной гражданской позиции, или посоветуйте обратиться в другой журнал. Вы же не маленькая, не первый день на свете живете. — Валентина Спиридоновна сердилась, ей неприятно было говорить столь очевидные вещи. — Понимаете, я думала... Дело в том…, я ещё нигде не читала такого достоверного описания войны и психологического состояния новобранца. — Лина спешила заинтересовать заведующую прозой. — Восемнадцатилетний мальчик не вынес ужаса первого боя, и прежде чем он спрятался в лесу, я, как читатель, мысленно уже сделала это. Ночью в темноте каждый пень кажется ему притаившимся врагом. Боится попасть и к своим — ведь он дезертир. И это состояние страха, изолированности от людей, хуже, чем смерть на передовой. Блуждая между деревьями, этот новобранец случайно вышел к своей части. Никто не заметил его отсутствия. Наутро снова бой, и тут уж солдат знал: другого пути нет — только вперед. Валентина Спиридоновна слушала рассеянно. — Значит, весь материал, который приходит по почте, в принципе не печатается? — после некоторого молчания спросила Лина. -- Почему же «в принципе»? Если попадется шедевр... Но шедевры, как вы понимаете, попадаются крайне редко. — Фирма работает на отказ, — усмехнулась Лина. Начальница промолчала. — Я понимаю, — снова заговорила Лина, и услышала свой мерзкий, заискивающий голос, — я понимаю… но как представлю: человек всю жизнь вынашивал в душе эту рукопись, и написал книгу, главную книгу своей жизни. Хорошо написал... Заведующая отделом прозы с раздражением перебрасывала в шкафу папки: — Сейчас я вам ничего не могу предложить, — не глядя на незадачливого рецензента, проговорила она. - Не знаю, может быть, месяца через три-четыре будет подходящая для вас рукопись. Заходите. «Господи! Не посылай мне непосильных искушений, дабы ничтожество мое не взяло верх над духом Твоим», — мысленно повторяла Лина, чавкая промокшими башмаками по раскисшему снегу. При этом соображала, не вернуться ли ей в редакцию - сказать, что будет писать, как прикажут. Если не она своей рецензий откажет автору в публикации, это сделает другой. Так не все ли равно? Медленно, обессиленная сознанием упущенного шанса, брела она по улице. Ближе к метро поток людей стал гуще, и подчинившись общей устремлённости, Лина вошла в вестибюль, спустилась по эскалатору и заспешила домой. Дома можно было принять горячий душ и лечь в постель с книгой. Это единственное удовольствие, которое она себе позволяла. — Лежишь? — злобно спросила дочка, вернувшись из школы. — Иди работай! Посмотри, в чем ты ходишь, такие боты даже старухи не носят. Тебе не стыдно? Опустилась, как алкоголичка. Лина молча оделась и направилась в библиотеку. Конечно, стыдно, еще как стыдно. Везде, где ей доводится бывать, прячет ноги под стул, чтобы не видели ее обуви. «Но я молчу об этом, а дочка проговаривает то, о чём молчу. У неё нет философии, у нее нет того, ради чего стоит бедствовать, её нетрудно понять. Когда мы приехали из эвакуации в Москву, я бегала после школы в Щербаковский универмаг и прилипала к витрине ювелирных изделий. Взрослые женщины изумленно оглядывались на закутанного в огромный клетчатый бабушкин платок ребенка, но я не могла оторваться от сверкающих камней. Уже тогда знала название каждого из них. Мысленно выбирала себе серьги с изумрудом, всегда одни и те же, и не сомневалась, что, когда вырасту, у меня будут такие. Потом студенткой заходила в магазин «Меха» и примеряла дорогие шубы. Продавщицы выстраивались по обе стороны примерочной, наверное, боялись, что украду. Все эти желания давно в прошлом, я и не вспоминаю о них. Только однажды на Кузнецком мосту прямо на меня шла молодая женщина в распахнутой норковой шубе. Я остановилась в удивлении: мы с ней были похожи, что называется, как две капли воды. Такие же каштановые, длинные, прямые волосы, и полные колени. Зашла сбоку - и увидела в профиль свой прямой, чуть вздернутый нос. Женщина говорила со своей попутчицей, и по их разговору поняла: они американки. Бабушка рассказывала: в двадцатых годах уехал в Америку её брат. Наверное, это его внучка. Такое поразительное сходство не может быть случайным. Женщина шла в небрежно распахнутой шубе, гордая своей независимостью и красотой. А может, у каждого из нас есть на земле свой двойник? Как ни старалась, не могла представить себя на её месте, скудное у меня воображение - не могу вообразить себя благополучной». Листая в библиотеке периодику, Лина соображала: «Ведь рецензии можно писать и на опубликованные рукописи, даже лучше; выберешь повесть или роман, которые тебе по душе, и пиши — своя рука - владыка». Так и сделала, договорилась по телефону с редактором отдела критики одного из солидных литературных журналов, и принесла рецензию. Встретил её сероглазый блондин в красной рубашке с приятным, даже красивым лицом. — Андрей Михайлович, — представился редактор. К Лининому удивлению он, в отличие от других редакторов, оставляющих рукопись на долгое прочтение, стал читать сразу. Читал внимательно, даже с любопытством. Лицо его при этом менялось, иногда казалось глубокомысленным, а иногда смазывалось, расплывалось в некоей неопределенности. — Извините, — оторвался от рукописи Андрей Михайлович, — вам придется поскучать, пока я читаю. Лина не скучала, она вглядывалась в редактора, и пыталась представить, чем живет этот человек. Нет, не судьбу его, не факты биографии, а ту основную направленность души, которая проходит через всю нашу жизнь. В лице, очертаниях рта не было законченности, характера не было. Как правило, редакторы в художественных журналах сами пишут. Мученическая у них жизнь: бесконечное чтение чужих рукописей разжижает сосредоточенность на собственных мыслях. Почему-то подумалось: женщины его любят. Никаких догадок на ум больше не шло и Лина, вытащив из сумки книжку, стала читать. -Ну что ж, очень даже приличная рецензия, — покровительственно заговорил Андрей Михайлович. - «Есть у мужчин такая манера. У нас небольшая разница в возрасте, а разговаривает он как старший». — Очень приличная. Только немного подправить нужно. Я, пожалуй, сам это сделаю. А что вы читаете? — Кивнул он на отложенную Линой книгу. — Ага, «Психология бессознательного», я тоже интересуюсь вопросами сознания и сверхсознания. И еще я пишу стихи, — доверительно, как ребенок, сказал редактор. — О чем? — Ну, так не расскажешь. —А вы почитайте, стихи, иначе, действительно, не расскажешь. — Лине не хотелось уходить, то ли устала и не было сил подняться, то ли хорошо было сидеть напротив Андрея Михайловича и думать о том, что человек он, несомненно, талантливый. И в то же время было ощущение его разбросанности, он не дотягивал до того, что называется личностью взрослого человека. Люди жалеют себя, и мечты их часто разбиваются о неспособность преодолеть желания сегодняшнего дня. Этот редактор, наверное, баловень судьбы. Договорились о том, что Лина позвонит через несколько недель, и он ей скажет, в каком номере пойдет её работа. — Ну, как там моя рецензия? — позвонила Лина спустя месяц. - Но вы ведь не из-за рецензии звоните, — усталым голосом проговорил Андрей Михайлович. Лина растерялась. У него не было оснований для подобного утверждения, хотя он не был неправ. — Я сам вас найду, когда будут готовы гранки. И он позвонил. Через два месяца Андрей Михайлович не только позвонил, но и принес ей гранки на дом. Лина угощала его чаем, даже попросила у соседа чего-нибудь выпить, и тот дал ей бутылку с остатками рома. Гость безрадостным взглядом оглядывал полупустую комнату: — Холодно у вас, — поежился он. — Холодно, весной будут менять батареи. — Вы здесь одна живете? — С дочкой. — Где же она? — У соседей телевизор смотрит. Налейте в чай ром, согреетесь. — Нет, нет, я не пью. — И по тому как Андрей Михайлович сказал это — поспешно, даже с некоторым испугом — она решила: алкоголик. Он будто подслушал ее мысли, и поспешил уйти. В следующий раз они встретились через полгода. Лине попался замечательный роман, и ей захотелось написать на него рецензию. Андрей Михайлович обрадовался ее приходу. Так же, как в прошлый раз, рецензию прочел сразу, обещал напечатать. Тут же вспомнил, что сегодня не обедал, и пригласил в буфет. Снова Лина поймала себя на мысли: «хорошо с ним, уютно». Андрей Михайлович участливо расспрашивал, нашла ли она, наконец, философский камень, о дочке, сделали ли в квартире ремонт: в прошлом году, когда приходил, вроде собирались менять батареи. Удивительно, как он обо всем помнил. Чтобы не показаться невежливой, Лина тоже постаралась припомнить его проблемы, но так ничего и не вспомнила, кроме того, что он говорил о своей дочке, какая она у него умница, серьёзно интересуется биологией. — У меня прекрасная дочка, — встрепенулся Андрей Михайлович, — Варенька очаровательная девочка, в этом году поступила на биофак и стихи замечательные пишет. «Не нахвалится, как женщина», — подумала Лина. Сама она своей дочкой не хвалилась, это всё равно, что говорить комплименты самой себе. — Вы ведь тоже стихи пишете, почитайте. — С удовольствием. Только пойдемте в тот дальний угол, там столик на двоих, а то сейчас обязательно кто-нибудь ворвется в буфет и подсядет к нам. Андрей Михайлович читал стихи о вдохновившей Рафаэля жертвенной любви, о святых «в окладах русской бороды», о девочке с печальными глазами. «Хочу любви!» — звучало рефреном во всех его стихах. «Мужику под пятьдесят, а он, как студент, любовью бредит», — тепло подумала о нем Лина. В следующий раз они встретились в редакции другого журнала. Андрей Михайлович, с отекшим лицом пропойцы, прилипшими ко лбу волосами чувствовал себя неуверенно: говорил отчуждённо, горбился, двигался как-то боком, подгибая колени. Стол его стоял в проходной комнате, на самом неудобном месте - у выхода, рядом с дверью. Ему бросали на стол гранки, которые он должен был немедленно вычитать. Лина смотрела на вздрагивающие руки Андрея Михайловича, на мятые рукава его дешевого костюма, и почему-то не могла уйти. Сидела напротив и ждала. Уже была половина шестого, скоро заканчивался рабочий день. Один за другим уходили молодцеватые мальчики в кожанках, а Андрей Михайлович, не поднимая глаз, вычитывал гранки. - Может быть, в кино пойдем, — предложила Лина, когда была отложена последняя страница. Андрей Михайлович снял очки, устало закрыл лицо рукой, как бы отгораживаясь от всего, и проговорил, наконец: — Пойдем. Только я спрошу разрешения, ведь еще двадцать минут рабочего времени. В открытую дверь, куда вошел Андрей Михайлович, Лина видела необычайно прямо сидящего в кресле начальника отдела. Густая черная щетина волос, и косой глаз делали начальника особенно свирепым. — Не разрешил, — вернулся Андрей Михайлович, — а вы идите, у меня сегодня много работы, идите, мы еще будем ходить в кино. «Андрей Михайлович болен» — сказали в редакции, когда Лина позвонила через несколько дней. Позвонила домой. «В больнице Алик, в больнице», — ответил дребезжащий старческий голос. «Он с матерью живет», — вспомнила Лина, и попросила адрес больницы. Оттого ли, что взрослого, седеющего человека зовут Аликом, или потому, что разговаривала с его мамой, появилось чувство причастности к жизни этих людей. — До 37-й больницы идет? — Суетились на автобусной остановке люди, и Лине показалось, - они волнуются предстоящим встречам. А она спокойна, и ей стало неловко от своей бесстрастности. Усомнившись в бестолковых объяснениях матери Андрея Михайловича, Лина начала свой визит в больницу со стола справок. Ну конечно, мать все перепутала: и корпус, и номер отделения. В огромной палате - полумрак. Судя по безлюдности, больные смотрят в красном уголке телевизор, только двое вытянулись под одеялами. Лина направилась к тому, кто лежал у окна. По мере того, как подходила ближе и узнавала в заросшем седой щетиной человеке Андрея Михайловича, становилось теплее на душе от появившейся вдруг нежности. |
||||||
|
|
||||||