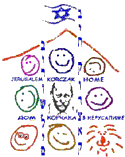|
См. также на нашем сайте: Дина Ратнер. "Бабочка на асфальте" Дина Ратнер
В ПОИСКАХ БОЧКИ
ДИОГЕНА
|
| |||||
|
Люди — двойственные существа. Помимо желания свободы —
сказать и сделать то, что хочется, — они носят в себе страх, страх судьбы. Лине
часто вспоминался случай, когда их, школьников из далекого пригорода, привезли в
Москву, в Музей изобразительных искусств. Она глазела на живопись старых
мастеров, железные доспехи средневекового рыцаря, старалась вникнуть в слова
экскурсовода о разных направлениях и стилях в искусстве. Прохаживаясь между
экспонатами — в те дни в музее была выставка деревянной скульптуры, -
остановилась перед изваянием человека, который не мог противостоять напору
огромного безликого чудища: оно наложило свои лапы на руки человека и тяжелой
массой головы упиралось в лоб хрупкой жертвы. Скульптура называлась «Судьба». В
тот день Лина увозила из музея ощущение парализующего страха перед неодолимостью
рока. «Чур не я, это со мной не случится», — говорила она себе при виде одиноких женщин. После войны было много таких. Только в их недавно построенном для инженерно-технического персонала восьмиквартирном доме жили четыре. Курносая круглолицая Клава. Мама говорила, что она некрасивая. Клава, наверное, и сама это знала, потому что никуда не ходила: на работу и с работы, и, словно украдкой, в магазин. Высокая, стройная Римма, которая сшила себе коричневое суконное пальто с огромным пушистым воротником. Легкие длинные ворсинки меха тоже коричневые, а на концах - совсем светлые. «В таком пальто Римма замуж выйдет», — сказала мама. Годы шли, а Римма так и сидела в девках. Выходить было не за кого. Всего лишь один недавно разведенный мужчина женился на Жене— восемнадцатилетней чернобровой красавице. Мама ахнула, ведь он старше своей тещи. Еще в восьмиквартирном доме жила суровая и, по Лининым представлениям, немолодая женщина; потом она родила похожую на монголку широкоскулую, узкоглазую девочку. Девочка видела, что не такая как все, она стеснялась детей и всё время играла одна — сидя на корточках, пускала по лужам щепки. «Кораблики», — говорила она останавливающейся около неё Лине. В юности человек живет надеждой. Сидя в школе за партой и не в силах сосредоточиться на уроке, Лина выстраивала в воображении свой мир. Ей представлялось некое средоточие вселенной в виде огромного светила, излучающего радость, любовь и всепостигающий разум. Любовь рисовалась единственным на всю жизнь принцем верности и чести. В двадцать пять лет Лина разводилась с мужем. Было страшно, но отношения изжили себя, и если не развестись, значит встать на дорогу, ведущую в никуда. Выбрала одиночество и неизвестность. Но неизвестность предполагает надежду. В отношениях с мужем все можно вынести: измену, невнимание, жадность, в конце концов, но невозможно обойтись без веры, что он изменится, и всё будет по-другому. Так уж в природе заложено, — женщине нужно почитать своего избранника. Если потребность любви велика, ты придумаешь партнера, припишешь ему несуществующие достоинства. И тогда в себе, только в себе должен искать неиссякаемый родник вдохновения. А не хватит сил, пеняй на себя. Дом, построенный твоими стараниями, рухнет. До свадьбы Лине легче было поддерживать состояние влюбленности хотя бы потому, что от встречи до встречи столько накопится нежности и терпения, что прощались опоздания Володи на свидания, не суть важным казалось и то, что сама расплачивалась в столовой за двоих. Бывало, он вытащит из карманов мелочь и долго пересчитывает, перекладывая с одной ладони на другую. В конце концов, Лина не выдерживала, — платила сама. Стоит ли об этом говорить, у нас равноправие, что женщина, что мужчина — на одинаковом положении. Володя привык к Лине, как привыкают к заботе, уюту: свитер ему связала, теплые носки, а когда приходил в общежитие, целую неделю не обедала, чтобы накормить жареным цыпленком. По натуре Владимир — генерал, но так уж случилось, что Лина оказалась единственным в его распоряжении солдатом. Он — сын замдиректора Московской филармонии, у него дома на полках полное собрание Брокгауза, а Лина — девочка из далёкого пригорода, где в школьной библиотеке была одна-единственная толстая книга «Жизнь Клима Самгина». Кто знает, не этот ли четырёхтомный роман определил у тринадцатилетней девочки поиск чего-то главного в жизни. Чтобы на вопрос: «А был ли мальчик-то?», ответить – «Был! Был!». Если бы мать Володи не умерла, а отец не ушёл бы со своей секретаршей – молодой женой - на новую квартиру, у Володи не было бы необходимости устраивать свой быт, значит, и жениться - без надобности. Но случилось как случилось, и Лина стала жить в доме с Брокгаузом и сидящей у лифта консьержкой, всякий раз говорящей «доброе утро» или «добрый вечер». «Мы, дети ответственных работников, - рассказывал Володя, - в голодные послевоенные годы ездили в пионерский лагерь «Артек». Когда проезжали мимо деревень, вслед поезду бежали деревенские мальчишки и ловили куриные кости, которые мы выбрасывали из окон». В голосе мужа Лина чувствовала стыд, сожаление. И это обнадёживало, значит, понимает, что к чему. За год супружеской жизни она перечитала чуть ли не все стоящие на полках книги, перелистала Брокгауза и усвоила, что если муж говорит, что придет в семь вечера, значит нужно ждать к ночи, а если попросить, чтобы купил картошку или отнес белье в прачечную, то придется просить столько раз, что легче всё это самой сделать. Она и делала. А вот когда родилась дочка, не успевала. Всё тогда смешалось — день, ночь. Пеленки, кормления по часам. Нужно успеть погулять с ребенком, забежать в аптеку, то ваты нет, то детской присыпки, сосок, да мало ли чего. И все время хочется спать. Одна бессонная ночь за другой. Лина обрезала свои длинные волосы, не было времени их расчесывать. Как-то само собой получилось, что она с ребенком оказалась в одной комнате, а муж в другой. Домой он являлся поздно, иногда совсем не приходил. При этом заявлял: «Имею право. Человек не раб, прикованный к галерам семейной жизни». Лина качает на руках дочку. В кроватке не спит — плачет. За окном - серые бесконечные будни. Ветер перегоняет по асфальту лужи, всё серое: небо, дома. Сливаются шумы тормозящих перед светофором машин, безнадёжно однообразный рык где-то работающего трактора. Лина прислушивается к стуку парадной двери, к ночи он становится реже. Стихает и поток машин за углом. Стучит по примёрзшему снегу скребок дворника. Потом и дворник уйдёт. Кто придумал, что в семейной жизни люди избавляются от одиночества? Когда они только познакомились, Володя был журналистом, работал разъездным корреспондентом в журнале «Клуб и художественная самодеятельность». Сейчас переквалифицировался в поэта, холит своё шестое чувство и выжимает из себя стихи. Получается что-то вроде сентиментального крокодила; слюна течёт от умиления, а у самого клыки торчат. Пишет стихи и упорно носит их по редакциям. Печатают. Почему? Дело в том, что Владимир пробивной. Пробивная способность, собственно, и составляет его талант. Отыщет в журнале, куда отнесёт стихи, не более талантливые вирши, чем свои, и тогда, редактор, берегись. «Почему те стихи напечатали, а мои не берёте?» -угрожающе говорил он. Безгрешного редактора трудно сыскать, а Владимир корректно ставил в известность, что будет искать справедливости выше, и редактор подписывал подборку его стихов в номер. Случалось, брал измором, простаивал в приёмной главного до тех пор, пока не возьмут одно-два стихотворения. А в один из центральных журналов, где особенно престижно печататься, ходил каждый день. Наконец, заведующий отделом не вытерпел и выгнал назойливого посетителя. Выгнал, но, будучи человеком интеллигентным, усовестился, что применил насилие. Не выдержал, вышел из кабинета и бросил ответственному секретарю: «Давайте напечатаем этого нахала». Иногда приходили гости – «братья-поэты», голодные и словоохотливые. Большой, красивый Эдмунд придвигал к себе сковородку котлет, мигом их заглатывал и с тоской смотрел, – нет ли ещё. Лирический поэт маэстро Марк, с длинными крашеными волосами и грязными ногтями, горячо уверял, что в жизни есть один лишь смысл – любовь. Никто не возражал, тем не менее, Марк настаивал. Поэты пили водку и читали стихи. «Старик! Ты гений!» – орали они друг другу. Владимир чувствовал себя как рыба в воде, спешил прочитать написанные накануне стихи и ждал яростных заверений в гениальной прозорливости. Попробуй кто-нибудь ругать его стихи, – измолотит. Пришедшим с поэтами девушкам он сажает на бутерброды зелёных пластмассовых мух. Такие продаются в магазинах рыболовных принадлежностей для наживки. Дико хохочет, когда девушки вскрикивают от отвращения. К ночи все напиваются и разбредаются по домам. Пьяного до бесчувствия младшего брата-поэта Витю, извлекают из-под стола и волокут на диван, за ним тянется широкий мокрый след. Такой бессмысленной траты времени Лина не понимала, и ей было жаль котлет, которые она жарила, падая от усталости, и снова нужно было мыть унитаз. К довершению бед, в подъезде украли коляску. Теперь она ходит в магазин с ребёнком на руках. От тяжести тянет живот, плечи, и мучает постоянное желание спать: вытянуться бы на постели и не шевелиться. Самые важные дела она всё-таки делала: выгуливала дочку, готовила обед, стирала, а вот лишний раз протереть пол или сходить в химчистку было невмоготу. Почему одному можно всё, а другому ничего? Вот и сейчас, Владимир поел, приоделся и собрался уходить. - Не пойдёшь! – Решительно сказала Лина. - Как это? - Не пойдёшь, и всё. - А что я буду делать дома? - С ребёнком сидеть. - А ты? - А я буду спать. - Но сейчас же не ночь. - Буду спать, - дрожащим от обиды голосом проговорила Лина. И оттого, что не могла сдержать слез, ей стало еще горше. Вдруг неожиданно для себя истерически закричала: — Подонок! Негодяй! — Схватила попавшую под руку тарелку и грохнула об пол. — Вот только уйди! Больше можешь не возвращаться! — Но я же ничего плохого не делаю. — Ты вообще ничего не делаешь. — Я к себе домой прихожу, а тебя здесь никто не держит. Последние слова сказал, уже стоя на пороге. Щелкнул замок. Лина смотрела на высокую, окрашенную белой масляной краской дверь. Как она радовалась, когда переехала сюда жить, как вылизывала, обряжала каждый угол. Не прошло и двух лет, дом стал чужим. Медленно прошла на кухню: на столе - грязная посуда, на оторванной проводке болтается выключатель, оборвана занавеска. Ни к чему не лежат руки. Пока они с Володей выясняли отношения, дочка уснула, отвернувшись к стенке. Постояв около нее, Лина поправила пеленки, и зачем-то направилась в комнату мужа. На письменном столе лежала открытая книга стихов, машинально стала читать, перелистнула страницу и неожиданно наткнулась на четверостишье, почти дословно повторяющееся в последнем стихе Володи. «Ага, плагиатом занимаешься», — мстительно подумала Лина, и поймала себя на том, что ненавидит мужа. Ненавидит за одиночество, за свой измученный вид, за то, что ей некуда уйти. «Наш брак утратил смысл», — не раз говорил Владимир. В самом деле, он потерял ту, в которой только и нуждался – прислугу. На отсутствие обеда или чистого белья заявлял: «Ты меня больше не любишь». Лина не возражала. Теперь она знала: Брокгауз в доме существовал всего лишь как наследство, не имеющее отношение к ее толстокожему мужу, выжимающему из себя «чувствительные» стихи: «Пройду по земле и травку не сомну, земляничку не сорву». Лина старалась найти хоть одно достойное уважения качество его души. На чем-то же должны строиться отношения: на благодарности за доброту, на почтении к таланту, на жалости хотя бы. Если Володя и делал доброе дело, она знала, он делал его по принципу: «я тебе — ты мне». Как-то случилось, он предложил братьям-поэтам скинуться по десятке для Эдмунда. Эдмунд, самый из них талантливый и бесшабашный, в очередной раз женился. Нужны были деньги. «Вот тебе, — вручил Владимир молодожену пятьдесят рублей и тут же добавил, — будешь на коне, не забудь про меня». «Можно пожалеть его», - пыталась придумать хоть какую-то зацепку в отношениях с мужем Лина. Но за что? Жалеют растерянного, обездоленного человека. Что же касается таланта, поэзия — дар страдания. Ничего подобного не было у ее бездельного, готового каждую минуту к мордобитию мужа. Куда девается чувство? Совсем недавно Лине казалось; умри он, и она бы осталась ему верной до конца жизни. Ко всему привыкают, и недавно влюблённая женщина привыкла к одиночеству вдвоем. - Человек свободен, — в который раз говорил муж, возвращаясь под утро. — Свободен, — соглашалась Лина. Вставал Владимир поздно. Ходил мрачный. Иногда замечал дочку, подходил в кроватке, резко тыкал пальцем ей в живот. Девочка страдальчески морщилась. — Хм, не плачет, — и тыкал еще сильней. Лина не выдерживала и загораживала собой ребенка. Тогда он, с сознанием своей власти, отстранял ее и продолжал свои забавы. Быстро исчерпав интерес к ребенку, послонявшись по квартире, заявлял, что здесь ему находиться противно, и уходил. В последние дни, прежде чем уйти, звонил какой-то девушке, уговаривал пойти с ним в поход на ночь с палаткой. Та, наверное, не соглашалась, потому как время от времени он глупо гыкал и произносил: «Бо-и-шься». С девушкой ничего не получалось, и спустя несколько недель Володя предложил жене мириться. В знак любви и заботы принес ей первый подарок: фартук, стиральный порошок и красные колготки. Потребовал, чтобы колготки надела тут же, немедленно. «Но для красных колготок нужен подходящий туалет, туфли, уж не говорю о соответствующем настроении», — возразила Лина. Ее отказ был принят как оскорбление и неблагодарность. Примирение не состоялось. Лина знала, — красные колготки носила Инга, первая возлюбленная Владимира, актриса травести. Собственно, и подарил он их ей для того, чтобы она хоть чем-то ее напоминала. Когда Владимир встретился с Ингой, ему было восемнадцать, а ей тридцать. Дело не в возрасте — разбежались они оттого, что Володе надоела богема. Безработная травести лежала целый день в постели, курила и пила кофе. «Она так мало ела, — вспоминал Володя, — кусочек сыра и апельсин — весь ее обед». Вечером натягивала маленькую кожаную юбочку, красные колготки, и они отправлялись на премьеру, вернисаж или за кулисы Театра Юного Зрителя к Ингиному идолу — огромному, патлатому режиссеру, который время от времени брал ее дублером на роль козленка в пьесе «Волк и семеро козлят». Лина, увы, ничем не напоминала Володе его первую любовь. Да и она мечтала вовсе не о таком муже. Не нужно ни квартиры, ни мебели, хотелось всего лишь радостной готовности идти за ним на край света. Она искала Бога и совершенства в человеке, и, не разведись она с Владимиром, изменила бы ожиданию главного, что должно случиться с каждым, — счастья, когда мы, наконец, находим того, кого ищем. Иногда охватывал парализующий страх: ни она, ни ее ребёнок никому не нужны. Если девочка заболевала, Лина совсем терялась и беспомощно металась по комнате с прильнувшей к ней дочкой. В последний раз у девочки была высокая температура с рвотой, муж оказался дома, и они вместе завернули её в одеяло и побежали в больницу. Когда опасность прошла, Лина поймала себя на нежной благодарности, а может быть, даже готовности наладить отношения. Но тут же раскаялась в этой готовности, потому как муж, с которым они давно жили в разных комнатах, поспешил не упустить момент — принес ворох своего грязного белья: пропахшее потом исподнее, заношенные до жестяной твердости носки — и велел постирать. — Не хочешь? — с угрозой спросил он. — Да, вдохновения не испытываю. — Пиши заявление о разводе! Сейчас же пиши! — разъярился Владимир, глаза у него округлились, большой влажный рот исказился в крике. — Я обманула твои лучшие ожидания? — ехидно спросила жена. Владимир кинулся на неё с кулаками. Хорошо успела выскочить в другую комнату и захлопнуть за собой дверь. Оттуда кричала: — А ты сам пиши! Или боишься, что буду претендовать на твоё имущество? Слушалось дело о разводе. На заседание суда Лина пришла на несколько минут раньше. Она всегда приходила на назначенные встречи пораньше. Не хотела быть рабом времени. Ведь если опаздываешь, нужно сломя голову нестись по ступенькам метро, распихивая прохожих, бежать по улице, и все время смотреть на часы. Тут уж ни о чем не будешь думать, кроме как «Не опоздать бы». Зал был пуст. Высокие судейские кресла с резными спинками, застланный красным сукном стол, ровные ряды стульев — все внушало почтение к правопорядку. Лина уселась в дальний угол, откуда из окна виднелось сквозь поредевшую осеннюю листву скучное двухэтажное строение из серого кирпича — «комбинат бытового обслуживания». Всё, что сейчас будет, к ней не имеет отношения. Это всего лишь необходимая формальность, что-то вроде регистрации смерти. Смерть уже свершилась, нужно зафиксировать факт. В зале стали появляться люди. Пришел «убитый горем» Владимир. Мужчина и женщина в синих вицмундирах со строгими официальными лицами заняли судейские кресла. — Суд идет! — Все встали. Сели. Зачитали Линино заявление о разводе. — Вы в самом деле хотите развестись? — участливо спросил судья, моложавый мужчина с густыми, темными, начинающими седеть волосами. — Да, — неуверенно подтвердила Лина. — Что вас заставило написать заявление о разводе? - Судья спросил так, словно знал историю Лининого замужества, и очень ей сочувствует. Лина усмехнулась. Вспомнила, увиденное в канцелярии суда, заявление: «Я, гражданин Иванов, возбуждаю дело о разводе с гражданкой Ивановой. Гражданка Иванова приходит домой в два часа ночи. На мой вопрос, где была, отвечает: не твое дело». Далее следовала просьба о разводе, потому, как писал гражданин Иванов, что «любовь промеж нас кончилась». — Любовь промеж нас кончилась, — повторила Лина последнюю фразу, и не могла сдержать улыбки. — Смеется, — зло заметила судебный заседатель; дама в прямом, как футляр, вицмундире с выцветшим, постным лицом. По тому, как она это сказала, можно было подумать, что Лина - легкомысленная женщина, а ее бывший муж - действительно пострадавшая сторона. — Ну ладно, — миролюбиво продолжал судья, — а вы согласны на развод? — обратился он к Владимиру. — Согласен, — печально подтвердил тот. «Охота ему притворяться, — с досадой подумала Лина. - Сказал бы просто — прислуга не справляется с обязанностями. Какая уж тут печаль». — Вы хотите развестись? — уточнил свой вопрос судья. — Хочу. — Почему? — Она меня не любит. - Вы не любите своего мужа? — В голосе этого мягкого, знающего жизнь человека, Лина услышала страх за неё. Страх, что вокруг много одиноких женщин и ей больше не выйти замуж, тем более, что останется с маленьким ребенком. И она испугалась. -- Он мне не очень противен, — услышала она свой фальшивый голос. -- Вот видите, — подхватил Владимир, — она меня не любит. - Есть разные люди, — резонно заметил судья, — один клянется даже в том, чего нет, а другой из самолюбия промолчит. - Пусть скажет, что она меня любит, — настаивал Владимир. — Молчит. Видите, молчит. - Но ведь вы его действительно не любите, — категорически проговорила женщина-судебный заседатель. - Действительно, — согласилась Лина. Ей начинала надоедать эта канитель. Дама–судебный заседатель с сознанием выполненного долга откинулась на спинку кресла. Ей, поблекшей в ожидании сумасшедшей любви, была невмоготу тоска мелких расчётов и житейские компромиссы. После размена квартиры Лина с дочкой оказалась в комнате, окна которой выходили на желтую стену здания военной академии. Иногда оттуда слышался ужасный треск, и приходила на ум мысль, что там расстреливают людей. В новой, с высокими закопченными потолками квартире, было четыре комнаты. Две занимало семейство Аникановых, одну - Лина с дочкой, а четвертую — пахнущая мочой безумная старуха со сворой кошек. В комнате перехватывало дыхание от кошачьего смрада и всюду наваленных грудами застарелых лекарств. Когда первый раз открыла дверь старухиной комнаты, ее встретили яростно ощетинившиеся кошки. Такая же звериная злоба была в глазах их хозяйки. Из дома старуха не выходила, продукты ей носили соседи по очереди. Она вытягивала дрожащую от нетерпения руку, хватала сумку и вытряхивала содержимое на колени. Сразу же находила сверток с рыбой, разрывала пакет и, раздирая рыбу руками, бросала куски утробно урчащим кошкам. Кошки, вырывая друг у друга добычу, сплетались в грызущийся клубок. А их хозяйка, зловеще усмехаясь, говорила: «Всё, всё. Подите прочь, больше ничего нет». Ее домочадцы, заглотнув остатки, и оглянувшись, нет ли еще чего на полу, разбредались по углам. Оттуда с рабской преданностью следили за своей госпожой. Та пыталась отодвинуть на край стола пыльные, с давно выпитой или высохшей микстурой пузырьки, пожелтевшие облатки, рассыпавшиеся горчичники. Вся эта груда шевелилась, что-то проливалось, падало на пол. Освобожденного места едва хватало на пачку халвы, хлеб и сахар. При виде халвы старуха, так же, как ее кошки, издавала утробный звук, потемневшее от ненависти ко всему миру лицо светлело. Лина шла на кухню ставить чайник. Хозяйка при этом напоминала: она знает - соседи хотят ее отравить, чтобы занять её комнату. И если с ней что случится, милиция уже обо всем осведомлена: ей в чайник подсыпали отравы. «Верно я говорю?» — призывает она в свидетели кошек. Те, как по команде, ползут на брюхе к своей госпоже и трутся об ее ноги. Уф! Лина едва сдерживает омерзение. Потом они пьют чай. Старуха достает из буфета две старинные, тонкого прозрачного фарфора чашки в грязных подтеках с прилипшими крошками, наливает в них кипяток. Разламывает скользкими от рыбы руками халву и придвигает гостье. Та, боясь обидеть соседку, мужественно ест и в который раз слушает повествование о том, как хозяйку любил муж. Она и не думала выходить за него замуж. «Но от него проходу не было. Так ухаживал! Приходил с полной сумкой продуктов и сразу на кухню. Какую осетринку во фритюре готовил! А кофе на чистых сливках варил. Чего ни захочу — все достанет». — Вы любили его? — Любила? — с недоумением переспросила старуха, — так он же был на двадцать лет старше меня. — И детей у вас не было? — Какие дети! Мы когда поженились, у меня даже шубы не было, и жили в одной комнате. Нет, детей я не хотела. Какой от них прок? — Вы бы сейчас любили кого-нибудь. — Ну да, как же, я бы любила, а они обо мне и думать не думали бы. Сейчас дети только и смотрят, чего с родителей взять. Вот они: мои верные псы, — кивнула она на кошек, — не продадут, не то что люди. Обжилась Лина на новом месте быстро: вымыла, побелила комнату, повесила шторы, отдала дочку в ясли, и жизнь началась сначала. Выбирать работу было не из чего, подвернулась должность социолога на автокомбинате, туда и пошла. — Что за должность такая «социолог»? — спрашивал главный механик автокомбината, добродушный улыбчивый детина с круглой, румяной физиономией. Наверное, из-за этой круглости лица его любовно прозвали Мордой. — Социолог помогает организовать рабочий процесс, — объясняет Лина. — Это как понимать? — ухмыляется Морда, его зеленые в светлых ресницах глаза, сдобные щеки и большой, улыбчивый рот светятся таким радушием, что невозможно не улыбнуться в ответ. - Социолог, например, дает рекомендации, каким образом повысить заинтересованность слесарей в работе, чтобы они к обеду оставались трезвыми. Или как распределять путевки среди водителей, чтобы снизить текучесть молодых кадров. — Ага, — чешет в затылке главный механик, — понял. Получается что-то вроде хитрого еврея при пане. Только пан прислушивается к советам своего еврея, не зря же он ему деньги платит, а нашему директору твои указания без пользы. Сама посуди: будешь потрафлять молодым водителям, — старички уволятся. А кто план давать будет? Молодежь не очень-то заставишь выйти в субботу на линию. Начальник колонны держится на стаичках, они надежней. И слесарей не больно прижмешь, хороший слесарь нарасхват, а ну - уйдет. Что делать? Вот и приходится на всё сквозь пальцы смотреть. Наш автокомбинат в системе, в государстве, тут нужно не с нас начинать. Тебе сколько платят? — Сто оклад и прогрессивка. — Значит, сто тридцать получается. Не густо. Но больше платить не за что. Бесполезная потому как. Ну вот чем ты сейчас занимаешься? — Провожу опрос. — Это как? — Заполняю анкеты. Водители отвечают на вопросы: довольны ли они работой, какой доход на одного члена семьи, сколько метров жилой площади, устраивает ли их работа в две смены? — А если не устраивает? Что ты можешь изменить? Квартиру не дашь и зарплату не прибавишь, а спросишь, — вроде как человек надеяться станет, мол, меры примут. — Все верно, — согласилась Лина. — И эти тоже дармоеды, — главный механик кивнул на стоящие в комнате столы инженера АСУ и инженера по технике безопасности, — что с ними, что без них. Он поднялся, постоял, будто раздумывая о чем-то, и собрался уходить. У двери оглянулся: — Иду сено ворошить, вчера вокруг заброшенной кузницы, что у забора, для кроликов накосил. Поди, подсохло. Хочешь, пойдем, землянику там соберешь. Про то место никто не знает, а то бы давно подобрали. — С удовольствием. А где вы кроликов держите? - Лина едва поспевала за аршинными шагами главного механика. — На лоджии, где же еще. Двухэтажную клетку там соорудил. Сейчас сгребу сена стожок, и буду таскать им зимой по охапке. Жена ругается, грязь, говорит, развел. А не понимает, что это мне, может, главная радость в жизни. Будь моя воля, вернулся бы в деревню. Я ей, дуре, говорил: «Ну что тебе Москва?» Маляром работает, работа вредная, а в деревне дом пустой, отец один в четырех комнатах живет. Так она заладила одно: «В деревне колбасы нет».— Морда зло сплюнул, и как бы между прочим, продолжал: — А ты бы в диспетчеры шла, посмотри, как там бабы зарабатывают, все в золоте ходят. Им, почитай, каждый водитель с зарплаты отстегивает. От диспетчера зависит путевка - или груз возить, или дым — порожняком кататься. В уборочную им мешками яблоки, картошка перепадают. А ты что можешь унести с работы? — Бумагу и скрепки, — смеётся Лина. — Во-во, сама над собой смеешься. Или техник по резине, не смотри, что жучка - на всех лает, как ошпаренная кидается, а какими делами ворочает! И не подкопаешься. Ты здесь осторожней ходи, смотри под ноги, а то наскочишь на железяку, их тут в траве много раскидано. Да не подбирай ягоду, туда дальше, на пригорке, она крупней. Что ты в ладошку кладешь, — Морда вытащил из кармана целлофановый пакет. — Вот спасибо, я и вам соберу. -- Мне ни к чему, жена с ребятишками уехала на лето в деревню, а я эту глупость не ем. Соленый огурец - другое дело. Возвращаясь в свою полуподвальную комнату в низком барачном строении административного корпуса автокомбината, Лина услышала из своего окна взрывы могучего мужского хохота. Открыв дверь, увидела человек двадцать водителей, один из них читал вслух оставленную на столе открытой «Феноменологию духа» Гегеля. Прочтёт строчку, все: «Ха-ха-ха!». Прочтёт следующую, все снова: «Ха-ха-ха!». Заметив Лину, читающий спросил: - Как нужно понимать эту штуковину? Объяснили бы нам. — Пожалуйста. Речь в этом отрывке идет об отношении раба и господина. Представьте: два человека, один из них труслив, другой независим. В этой ситуации тот, который ради своих убеждений и представлений о чести готов рисковать благополучием, даже жизнью, имеет больше шансов стать господином. Другой боится, и потому оказывается в положении раба. Далее отношения развиваются. Господин привыкает к услугам раба, раб становится ему необходим, то есть, господин попадает в зависимое положение, чего нельзя сказать о рабе. Ситуация, таким образом, меняется на противоположную — раб превращается в господина. — Мудрено очень, — говорит один из водителей, красивый человек лет тридцати с классически правильным тонким лицом. Только очень худой, и взгляд беспокойный, болезненный. — Получается, если ничего не боюсь, значит, я господин? — О каждой ситуации нужно говорить конкретно, — уклончиво ответила Лина. — Можно и поговорить. Я вот, к примеру, крал, убивал, а сволочью никогда не был. — Ну, ты даешь, — недоверчиво протянул шустрый с маленькими злыми глазами инженер по безопасности движения. Наверное, зашел сюда из своего кабинета на шум голосов. — Ты, гнида, молчи, — вскипел уголовник, — с тобой разговор особый, — и тут же обратился к набившимся в комнату водителям: — Братцы, дайте поговорить с ученым человеком. Неохотно, один за другим, все вышли. — Я эту паскуду пришью когда-нибудь, — глядя вслед инженеру по безопасности движения, доверительно заговорил водитель, усаживаясь напротив Лининого стола. — За что? — Так ведь он со всех нас оброк берет. — Это как? — Что же, вы работаете среди нас, и ничего не знаете? Не дашь ему на лапу, придерется к чему-нибудь, права отберут. Вот ты и не человек. Правду свою не докажешь. Его здесь все ненавидят. Начальник выискался! Чем он лучше меня? Мы такого одного в зоне быстро убрали. Сапоги, гад, лизать заставлял. — Убили?! — Мы тоже люди, — нервно дернулся водитель, — опрокинули на него ковш с бетоном, забетонировали. Так верней. С собаками искали, не нашли. Ну что вы на меня так смотрите? Очень страшный? — Нормально смотрю. А в тюрьму как попали? — Ну, это совсем просто. В ЖЭКе работал жестянщиком. Кровли чинил, водосточные трубы. Мы с ребятами, если кто уезжал из наших домов в новостройку, квартиры их осматривали, мебель какую подбирали или бронзовые ручки с дверей свинчивали, дубовый паркет разбирали. Всё равно пропадал. А тут пришли, открыл я отмычкой дверь — ковер огромный скатанный на полу лежит. Мы его загнали. На следующий день хозяин, бывший полковник КГБ, скандалить стал, мол, переехать переехал, а ковёр оставил, в машину не поместился. Кто дверь отмыкал? Быстро нашли. Я и не отпирался. Два года отсидел. Может, и простили бы, да суд был показательный. — Сдались вам эти квартиры. —Да не я, кореши просили. Сделай отмычку, ты, говорят, жестянщик, можешь. Вот и потрафил. И ковш с бетоном, думаете, почему опрокинул? Тоже потрафил бедолагам. Так кто ж я, выходит, раб или господин? — Раб или господин? — машинально повторила Лина вопрос. — По правде говоря, не могу представить, как можно убить человека. Ну, в состоянии аффекта... — Чего, чего? — В состоянии гнева. -- А мы от радости, что ли, — с раздражением проговорил водитель, и неожиданно резко поднялся уходить — ему стало скучно. Лина растерялась, слова, которыми можно было остановить собеседника, на ум не шли. — Подождите, — сказала она уже стоящему в дверях красивому молодому человеку. — Да чего там, — оглянулся тот, — все равно не поймете. «Глупо получилось, — досадовала Лина, в растерянности шагая по комнате. — Я, видите ли, не понимаю, «как можно убить», но он хотел говорить о своем, а не о моем непонимании. Справедливости хочет. Один против всех. Какое значительное и несчастное лицо. Лицо загнанного и огрызающегося зверя. И эта знакомая готовность сразу подняться и уйти. Но убить я не могу, я бы даже не могла работать медсестрой и делать болезненные уколы, слишком хорошо представляю боль. «Свобода — осознанная необходимость» — утверждал Гегель. Почему убил этот человек? Чтобы сохранить чувство достоинства, свободы. Убить или лизать сапоги? Убить для него значило вырваться из ситуации рабской зависимости. Наверное, одинок, иначе не был бы так болезненно напряжен. Живут же другие люди, покупают красивую мебель, собирают марки, пьют чай с клубничным вареньем. Тихо, мирно, тепло... А он как пущенная стрела — не удержишь. Не говорить же ему, самолюбивому изгою, о смирении и непротивлении злу насилием. Тем более, я сама не верю в это беззубое средство. Мы зависим от собственного «я», которое часто не осознаем. Это «я» вроде кода, программы к действию. Нами что-то движет, и мы становимся свободны, когда осознаем это «что-то», то есть, выбираем себя. Каждый прорывается из обыденной повседневности по-своему: один обожествляет любовь, другой сочиняет музыку, третий изобретает вечный двигатель. Идея первична. Значит, получается наоборот, свобода не есть диктуемая обстоятельствами необходимость, она подчиняет, определяет необходимость. К концу рабочего дня Лина убирает в стол свои записи, составляет список водителей, которых завтра должна опросить по анкете, и идет в детский сад за дочкой. — К нам сегодня никто не придет? — спрашивает Оля по дороге домой. — Нет, а что? — Тогда давай, мы пойдет к кому-нибудь в гости. — Зачем? — Хочу радоваться. — Как это радоваться? — Чтобы были разные люди и много вкусной еды. Лина молчит. — Папа, наверное, придет, — поскучневшим голосом проговорила Оля. Владимир, действительно, приходил неожиданно часто. Вытаскивал из портфеля банку болгарского компота «Ассорти» и ставил на стол с таким видом, будто бросал под ноги соболью шубу. Поспешив разменять квартиру, он оказался один. Никто не кинулся его обслуживать, вот и таскается к своей прежней семье — уют ищет. Лина оставляла его вдвоем с дочкой, а сама шла на кухню чистить кастрюли или стирать. Ровно в девять напоминала, что визит окончен, и Владимир нехотя собирался, все время стараясь найти повод задержаться — то, выворачивая карманы, - долго искал свои потерявшиеся ключи, то хотел переждать дождь. Сидел притихший, с видом нашкодившей собаки. — Зачем возиться с едой, мыть посуду, — глубокомысленно говорил он, — жалко на такие пустяки время тратить, можно есть прямо так, с бумажки. Я согласен, — и искательно заглядывал Лине в лицо. Мысль о том, чтобы помириться и спать с бывшим мужем в одной постели, была омерзительна. Все равно что реанимировать труп. Когда они познакомились, Володя казался красивым. Настолько красивым и значительным, что Лина даже не надеялась на его интерес к себе. Сейчас же она с неприязнью отмечала желтизну его кожи, невыразительные, словно остановившиеся глаза. Было ужасно и то, что она наперед знала его поступки. Как дважды два. На суде ей назначили уплатить за развод двадцать рублей. Володя великодушно заявил: «Расходы беру на себя». Лина знала, дома возьмет свое обещание обратно, скажет: «Не заслужила». Так и случилось. Тоска-то какая, хоть бы на миг вылез из своей шкуры. — Главное, быть добрым друг к другу, помогать в тяжелую минуту, — рассуждал бывший муж. Лину раздражала эта демагогия, уж она-то знала цену его доброте: подождет неделю-другую, и клыки покажет. Так и случилось. Поводом послужила Олина просьба купить ей лыжи. — Я алименты плачу твоей маме, проси у нее. — А она не покупает, — жаловалась Оля. — Ты почему не покупаешь ребенку лыжи? — злобно спросил Владимир. — Куплю. — Бросила Лина, занятая перелицовкой старой юбки. На кухне работа кончалась, и она вернулась в комнату, не терять же время. — Куплю, куплю, а сама не покупаешь, — канючила Оля. И гость зашёлся в праведном гневе: —Я деньги на ребенка даю, а не на тебя. Куда ты их тратишь? — Считаешь, твои двадцать пять рублей не на что истратить? — Ладно, — угрожающе проговорил Владимир, — давай посчитаем, что ты купила ей за последние два месяца. Я помимо алиментов еще и приношу кое-что. — Ты имеешь в виду компот? Так ведь это из ужуленных алиментов. Не хочешь же ты сказать, что получаешь всего сто рублей. — Это не твое дело! — Почему же не мое? Ведь ты должен платить четверть всех доходов, — равнодушно проговорила Лина и вышла из комнаты. Какая радость, что можно прекратить разговор, а завтра на его попытки выяснить отношения по телефону швырнуть трубку. Но Владимир не уходил. Дождался, когда Лина вернулась, и категорически заявил: — Ты до сих пор носишь мою фамилию. Почему не берешь свою? Молчишь. Я знаю почему: хочешь спрятаться за моей русской фамилией. Не выйдет. Моя фамилия будет у моей новой жены. - Всем хватит, и новой, и старой. — Стараясь казаться спокойной, проговорила Лина. Владимир был прав, она не то чтобы пряталась за его фамилией: не хотелось обнажаться сразу. Не было сил видеть пустоту в глазах завов и замов при устройстве на работу. Так они хоть разговаривают с тобой до заполнения анкеты, а то сразу откажут; очень уж характерная у неё фамилия, все равно как Рабинович из еврейских анекдотов. В том, что Владимир вскоре женится, сомнений не было: ведь кто-то же должен его обслуживать. Про новую жену он говорил общим знакомым: «Она человек хороший». Конечно, «хороший», он и выбирал добрую, безответную. Другая бы не оказалась в роли жертвы. Если кто и помогал Лине жить, так это Кант. Нацеленный на разум, выходящий за пределы реальности, философ показывал, как абстрагироваться от действительности. В воображаемом мире абсолютных ценностей жить легче. Искусство - тоже абсолютная ценность, оно соединяет конечное с бесконечным, утверждает жизнь перед страхом небытия. Мы ощущаем себя пролившимся на песок дождем и, чтобы не исчезнуть бесследно, пытаемся запечатлеть хотя бы узор на песке. Страх небытия, очевидно, оставляет верующих людей. Первый еврей Авраам, постигший единое начало мироздания, распознал новое мироощущение человека — человека, стоящего перед лицом Всевышнего. Каждый сам открывает путь к Богу, без творческого соучастия всех людей замысел Бога о творении совершенного мира не может осуществиться. Лина писала диссертацию о соотношении в творческом процессе бессознательного, эмоционального начала с волевой устремленностью. Вдохновение в творчестве сродни откровению в религии. При этом интеллектуальное постижение и мистическое чувство едины; вера неотделима от чувства и мысли. Сразу возникала связь с экзистенциализмом и психоанализом, которые, если и можно было выносить на обсуждение в Московском университете, то только в плане критики. Как думалось, так и писалось, а когда диссертация была готова, Лина оформилась соискателем на кафедру эстетики МГУ. Научные планы кафедры определял один человек — Чингиз-Хан от эстетики. Усохший, сморщенный, с обезьяньим желтым личиком, он в единственном числе представлял московскую школу философии искусства: завкафедрой в университете, завсектором эстетики в институте философии, зав соответствующего отдела в журнале «Вопросы философии». В высшей аттестационной комиссии - тоже самый главный. Не обойти, не объехать. На кафедре в университете, как при дворе Людовика XIV, заведующий — король, идет впереди, а члены кафедры - на несколько шагов сзади. Если кто встречался с похожим на мумию завом в лифте, от смущения не знал о чем говорить. Так и ехали молча до одиннадцатого этажа. Немногие из сотрудников видели человеческие проявления своего шефа: как он ест, заходит в туалет, смеется - только скривится иногда, что только при очень богатом воображении можно было принять за улыбку. Чтобы переговорить с завом, нужно долго стоять под дверью его кабинета. За пятнадцать лет этого единовластия лишь два человека на кафедре позволили себе роскошь иметь собственное научное мнение, отличное от мнения шефа. Уволили их тут же, вернее они уволились по собственному желанию. И след простыл, сгинули куда-то, и нигде, ни в одном журнале не появлялись их публикации. На апробации Лининой диссертации — необычная тишина: все слушают. Лина оглядывается на преподавательский состав, по инквизиторскому взгляду зава пытается предугадать заключение кафедры. Рецензенты положительно оценивают работу, хоть и выражаются уклончиво, последнее слово за Чингиз-Ханом, вдруг мнения разойдутся. Тем более тема и концептуальный подход очень уж не вписываются в проблематику кафедры, здесь, в основном, занимаются марксистско-ленинской методологией. После выступления рецензентов наступила тишина. Долгая пауза. -Может быть, еще кто-нибудь выскажется? — спросил младший преподаватель кафедры Алексей Николаевич. Он вел протокол заседания. Снова тишина. Медленно, как в замедленной съемке, поднимается зав. — Автор, — начал он дистрофическим голосом, — преувеличил роль бессознательного, и тем самым встал на точку зрения буржуазной философии. То был конец. Апеллировать после такого заключения некуда. Лина смотрела на темную лысину зава, его дорогой костюм на бесплотном теле, сухой старческий рот. — Конечно, если автор пересмотрит свои философские позиции, — медленно выдавливал из себя слова сильный мира сего, — если он обратит внимание не на бессознательные моменты в художественном творчестве, а на осознанные марксистские положения, мы снова можем вернуться к вопросу о защите на нашей кафедре. Как в зале суда, последнее слово дают подсудимому, так на апробации — диссертанту. Лина поднялась на кафедру и не могла говорить. Она хотела сказать… но по глазам преподавателей поняла: все бесполезно — ситуацию не изменишь. Необычно притихшие аспиранты смотрят с интересом, сочувствием. От того, пройдёт ли сейчас эта работа, зависят и их возможности, и они смогут обойти марксистско-ленинскую методологию. -Я думаю, — сдавленным голосом проговорила соискательница, - я думаю, нецелесообразно умножать и без того многочисленные работы о роли осознанных моментов в творчестве. Именно роль бессознательной психики еще не исследована, ее изучение приостановилось у нас в двадцатых годах. — Лина говорила словно в вату. Так во сне бывает, хочешь убежать - ноги атрофировались, говоришь - и не слышишь своего голоса. — Перерыв на пятнадцать минут! — провозгласил Алексей Николаевич, и все поспешили в буфет, в курилку. Алексей Николаевич, грузный, с красным апоплексическим лицом и на редкость красивым почерком, стал собирать разбросанные по столу листки протокола. К нему подошел комсорг факультета, как всегда бодрый, с аккуратно подстриженными бородой и усами. Его диссертация должна обсуждаться после перерыва. — Ну, ты как? — хлопнул комсорг Алексея Николаевича по плечу. — Нормально. — Будешь меня сейчас записывать? — А как же. Для тебя и стараюсь. С тобой не будет проблем, могу сразу вынести заключение: «рекомендовать к защите». Возвращались после перерыва сотрудники кафедры, аспиранты, студенты; шумно рассаживались. Когда аудитория заполнилась, Алексей Николаевич как заправский конферансье, громко с воодушевлением объявил: «Следующее наше обсуждение — на тему: «Роль искусства в антирелигиозной пропаганде»! Диссертант — всем нам известный комсомольский вождь Вадим Воеводин!» Получилось что-то вроде: «Следующим номером нашей программы выступает заслуженный артист Вадим Воеводин! Оп-ля!» Танцующей походкой Вадим взошел на кафедру и голосом любимца публики заговорил об актуальности антирелигиозной пропаганды. Никто его не слушал, переговаривались, смеялись. Тема привычная, апробация разыгрывается как по нотам. Рецензенты ничем не рискуют, и обсуждение длится не два с половиной часа, как у Лины, а всего лишь двадцать минут. Обсуждать, собственно, нечего; нет концепции, нет разногласий. Если серьезно, то говорить нужно не об отделении искусства от религии, а наоборот, об их сближении. Ибо художественная правда искусства поднимается над житейской правдой, и таким образом, в некотором смысле, приближается к религиозным представлениям о сущем и должном. Но попробуй Лина сейчас об этом сказать, никто не услышит. Или сочтут сумасшедшей. В самом деле, плевать против ветра — безумие. Люди, которые знали заведующего кафедрой еще студентом, рассказывали о том, что он всю войну проносил в вещевом мешке том Гегеля. После войны не сошелся в мнении с высоким начальством по поводу взаимоотношения марксизма и гегелевской диалектики. Запил. Пил, говорят, по-черному. Валялся под забором и за стакан водки готов был снять последний пиджак. Потом вдруг бросил и стал делать карьеру. — Ты становишься сволочью, — сказал ему один из его бывших друзей. — Это от чувства неполноценности, — ответил зав. Что бы ни говорили о прошлых метаниях шефа, студенты философского факультета, специализирующиеся по эстетике, ориентировались на сегодняшнее начальство. А что делать человеку, если он думает иначе? Найти себе занятие, где не нужно думать. Но куда деть копившуюся умственную энергию? Энергия ума и души так же материальна и нуждается в реализации, как и физическая потенция. Человек ходит по кругу своей судьбы. Лина все время искала работу по специальности. Не находила, и все-таки искала. Очень уж невмоготу было сидеть социологом на автокомбинате, никому она там не нужна и ничего от нее не зависит. Как слесаря пили, так и пьют, и все так же увольняются молодые водители. Лина пыталась заинтересовать своей диссертационной темой замдиректора НИИ искусствознания. Вальяжный человек лет шестидесяти в элегантном белом костюме вежливо улыбался, слушал и не отказывал в надежде получить работу. Не отказывал, но и не обещал. - Зайдите через полгода, может быть, в секторе изобразительного искусства будут вакантные места. Одни законы творческого мышления, что в живописи, что в литературе. Лина пришла через полгода. Зам директора снова вежливо улыбался, но работу не брал. - Вы не исчезайте, — говорил он, — ходите на заседание сектора, сделайте доклад, у вас очень интересная тема. Лина ходила, сделала доклад, только и утешения, что выслушала похвалы по поводу того, что у нас проблема бессознательного в загоне, а она уже так много наработала. - Вы мужественный человек, — заметил зав отдела социологии того же НИИ искусствознания, — через месяц-другой нам дадут ставку, и мы вас обязательно возьмем. В нетерпении Лина уволилась с автокомбината. Не взяли. На долгожданной ставке младшего научного сотрудника оказалась юная свояченица известного режиссера, только что окончившая Пищевой институт. *** Жить страшно. Лине часто снится один и тот же сон. Вся земля обледенела. Она пытается бежать с дочкой на руках, ноги скользят, да и некуда бежать — кругом глыбы льда. Вдали к берегу океана, пристал корабль, с него сошел и идет к ним Оленькин отец. Только он почему-то негр. Владимир говорит, чтобы Лина отдала ему ребенка, все равно они здесь погибнут во льдах. Лина понимает: он прав, ей не выжить, нужно хотя бы ребенка спасти, и протягивает ему дочку. Владимир с Оленькой уходят на корабль. Они уже далеко. Лина пытается бежать за ними, падает, поднимается, снова бежит. «Надень Оленьке варежки», — кричит вслед. Ветер относит ее слова. Сон повторяется в разных вариациях. И всякий раз, оказавшись перед безысходностью, невозможностью что-либо изменить, Лина отрывает от себя ребенка. В страхе просыпается и прижимает к себе дочку, кладет ее теплую ручку себе под щеку. Этот единственный маленький человечек дает ей силы жить. Сколько раз Лина перебирала в уме места, куда можно пойти в поисках работы. В отличие от жившего в бочке Диогена, она была кормилицей, главой семьи, а климат средней полосы России не мог сравниться с климатом побережья Средиземного моря, здесь дырявым плащом не обойдешься. Не говоря уж о том, что Диоген имел юридическое право не работать. Его свободе позавидовал Александр Македонский, сказавший: «Если бы я не был царем, я стал бы Диогеном». Невольно вспоминалась первая работа, куда Лину распределили по окончании университета. То была центральная научно-исследовательская лаборатория «Союзаттракцион» при Министерстве культуры РСФСР. Она шла в отдел социологических исследований младшим научным сотрудником. Шла как именинница: купила новое платье, туфли. И встретили как именинницу: женщины улыбались, мужчины спешили предложить свои услуги; передвинуть ли подальше от двери письменный стол, чтобы не дуло, или сбегать в соседний магазин «Свет» за электрокамином — в помещении было прохладно. Первый день выхода на работу совпал с днем Красной армии, и Лина сразу попала на праздник. На сдвинутые столы в вестибюле из всех отделов несли бутылки, стаканы, апельсины, тарелки с нарезанной колбасой и сыром. Лина пила шампанское, и пела со всеми боевые песни о тачанке и красных командирах. «Какие замечательные люди!», —восторгалась она. Впрочем, восторгалась не она одна. Об этом же говорили и сами сотрудники: «У нас микроклимат! Нигде, ни в одном учреждении, вы не встретите таких доброжелательных отношений как здесь. Никто никого не подсиживает, не ставят палки в колеса. Теплая, дружеская атмосфера — микроклимат, одним словом. Зимой огурцы растут, да что огурцы — цитрусовые!» Лине тогда не терпелось включиться в работу, хорошее отношение сослуживцев она воспринимала как аванс, который спешила отработать. Всего в отделе вместе с ней - пять человек. Начальник Валерий Степанович —высокий, с залысинами, в очках с модной оправой — казался интеллигентным, даже загадочным. Второй сотрудник — меланхоличный бородач Миша. Миша тут же потащил Лину под лестницу, в курилку, там он и кресло себе поставил. Миша медленно тянет одну сигарету за другой. Бросает окурки в бездонный алебастровый сапог, и рассказывает об искусстве огранки драгоценных камней. И о том, что читает научную литературу на трех языках. Лина сразу же прониклась к нему безмерным почтением. Еще в отделе две дамы-щебетуньи; симпатичные и почти молодые. Эльвира Алексеевна, вся в кудряшках, с маленьким, как у воробья, носиком, приколола над Лининым столом картинку из иностранного журнала, изображающую мотогонки. Картинка Лине не понравилась, но она выразила удовольствие — Эльвира Алексеевна для неё ж старалась. Отойдя на несколько шагов и склонив голову набок, та долго разглядывала дело рук своих и решила — одной картинки недостаточно. Самоотверженно отколола у себя над столом ещё одну и понесла только что принятой на работу девушке. И снова Лина выразила благодарность. А что делать? Впрочем, через месяц она их сняла. На их месте появились другие. «Так лучше», — твердо сказал Эльвира Алексеевна, и Лине ничего не оставалось, как подчиниться. Напротив её стола — стол Нелли Михайловны, сидят лицом к лицу. Всякий раз, когда Лина поднимает взгляд, встречается с желтыми скучающими глазами Нелли Михайловны. Сидит, смотрит перед собой и соединяет и разъединяй пальцы рук. И так целый день. Лина чувствует себя виноватой в том, что соседке скучно. Стала носить ей книги: от американской социологии до воспоминаний Ивана Бунина. — Все книги через два часа снова оказывались у неё на столе. — Неинтересно?! — изумлялась Лина. — Прочитала, — равнодушно поводила полными плечами Нелли Михайловна. — Как! Так быстро? — Прочитала, и все. — Как же вы читаете? — По диагонали. — Что-нибудь запоминаете? — Конечно, — обиделась Нелли Михайловна. — Вот бы мне так научиться. Читать по диагонали знакомую научную литературу — куда ни шло, а вот художественную — не могу представить. Спустя несколько недель Лина исчерпала всю свою скудную библиотеку, и Нелли Михайловне ничего не оставалось делать, как снова смотреть прямо перед собой, то есть на неё, и соединять и разъединять пальцы рук. |
||||||
|
|
||||||