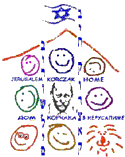|
«Это неправда, что можно исповедаться в грехах, и Бог тебя простит. Есть
поступки, которые ты сам себе не простишь, будешь мучиться, думать. Была бы
возможность что-нибудь изменить, повернуть время вспять, ты бы поступил иначе. Я
тогда не знала, что каждый день моей девяностотрехлетней бабушки может стать
последним. К бабушкам привыкают, как к домашним туфлям. Бабушка просила молока,
а я устала под вечер; и почему обязательно молоко — ешь суп, молоко куплю
завтра. Но завтра было уже поздно. Бабушку разбил паралич. Она лежала в постели
на спине и оттягивала рукой ворот рубашки. Я знала, что означал этот жест: она
хотела, чтобы я ее вымыла перед смертью. Когда несколько дней назад плохо себя
почувствовала, попросила: «Вымой меня». Потом раздумала, сказала: «потом», — ей
стало легче. Не настолько легче, чтобы найти в себе силы влезть в ванну, но
настолько, чтобы понять, - смерть еще не пришла за ней. Стыдно вспомнить, но в
тот вечер, когда она просила молока, в доме, кроме супа и залежалой селедки,
ничего не было. Бабушка сама виновата, она всегда доедала засохшие старые куски,
и все привыкли к ее непритязательности.
Всё началось с войны, с эвакуации. Бабушка отдавала свою пайку хлеба нам с
братом, а сама ела собранные на помойке очистки. При этом говорила, что хлеб
свой она уже съела. Я тоже хотела есть очистки, но очистки мне не давали, я ела
бабушкин хлеб. Ела медленно, по крошке, чтобы подольше чувствовать вкус хлеба,
но крошка таяла во рту и сглатывалась со слюной. Я не хотела есть чужой хлеб,
потом привыкла, все привыкли».
- Ты не думай, — говорила бабушка, — я на своем веку чего только не
перепробовала, а когда работала на овощной базе, ела самые лучшие персики и
фиги. Тебе и не снились такие.
Что такое фиги, я не знала, даже представить не могла. По бабушкиным описаниям,
у них внутри косточка стучит.
- А вкус персиков ты помнишь? — спрашивала бабушка в холодной маленькой
кухоньке, в деревушке Шанхай, на правом берегу Енисея, куда мы эвакуировались
вместе с оборудованием авиационного завода, где работала мама.
В непроглядной зимней сибирской ночи, возле маленького огонька масляного
светильника, бабушка рассказывала о жарких песках Палестины, караване верблюдов,
о проданном в рабство Иосифе Прекрасном. О Боге, который научил Моисея вывести
евреев из египетского плена. «Расступились волны морские, и прошли евреи по
морю, как посуху. Колесницы фараона бросились следом, но сомкнулись волны и
затопили войска фараона».
— Фараон - немец?
— Нет, это царь, а евреи были его рабами. - Бабушка рассказывает, словно
вспоминает свою жизнь, а мы с братом протягиваем руки к железному корыту с
тлеющими, быстро остывающими углями — греемся. Уголь приносила мама с работы в
кошёлке, его, пока совсем не прогорел, спешили выгрести из печки, чтобы тепло не
уходило в трубу.
Девочка слушает и представляет людей идущих по дну расступившегося моря. Среди
них свою бабушку. Бабушка красивая; глаза умные, нос прямой, рот подвижный,
выразительный. В какое тряпье её ни ряди, казалась интеллигентной. Русскими
буквами писать не умела, зато всю Тору знала наизусть. И говорила бабушка
красивым, образным языком. Зачарованная, Лина слушала рассказ, как у одной
еврейской женщины в египетском плену родился мальчик. По велению фараона, всех
младенцев мужского пола уничтожали, дабы не угрожала царю умноженная сила
еврейского народа. Дальше следовали чудеса, как выловила царская дочь корзину с
маленьким Моисеем, как испытывал его царь: поставил перед ним чашу с огнем и
чашу с золотом; если потянется к золоту, значит, умный, — его нужно опасаться и
потому убить; а если выберет огонь — глуп, можно оставить жить. Мальчик
потянулся было к золоту, но Бог направил его руку к огню.
От бабушки же Лина усвоила десять заповедей, которые вошли в плоть и кровь: «не
убий, не укради, не пожелай жены ближнего...» Случалось, бабушка пела: «Выхожу
один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня
внемлет Богу, и звезда с звездою говорит…» С этой песней, казалось, уходила она
– самый близкий, родной человек, по скрипучему снегу в бескрайнюю ночную степь -
в неизвестность и одиночество.
— Почему?! — Плакала и рвала на себе волосы бабушка. — Почему я жива, а Пейся
сгорел в самолете?
Пейся — бабушкин племянник и мамин младший брат, ему и двадцати не было, когда
он погиб на войне.
- Почему умерли мои дети? Почему?! — била себя по лицу и кричала бабушка свои
жалобы.
Мне представлялось, что все евреи в местечке так вопрошали Бога. Я тогда
ссорилась с братом — у кого будет жить бабушка, когда станет совсем старой.
Каждый отстаивал свое право.
Когда бабушка стала совсем старой, она жила у меня. Я тогда разводилась с мужем,
на душе было пакостно — велика ли радость остаться одной с ребенком.
— Ты не переживай, — говорила бабушка, просительно заглядывая мне в глаза, — у
меня есть несколько золотых пятерок, купи себе что-нибудь красивое.
Если я задерживалась в ванной, бабушка стояла под дверью и просила: «Открой, что
ты там делаешь? Открой!» Она боялась, вдруг я в положении и специально закрылась
в ванной, что-то делаю, чтобы избавиться от ненужного ребенка. Она сама когда-то
совершила большой грех — вытравила плод. Они с мужем едва могли прокормить троих
детей, четвертый им был не по силам. Бабушка шила телогрейки на продажу, а муж
ее, тихий человек невысокого роста, возил в город мешки с мукой. Оттуда
возвращался с бакалейным товаром: мылом, солью, сахаром. Торговля была
копеечная, и жили соответственно — маленькая хата под соломенной крышей с
земляным полом, где единственной мебелью был фанерный ящик для одежды. Уповали
на детей, все три мальчика были на редкость умными и красивыми. Несчастья
начались с того дня, как бабушка избавилась от беременности. В тот день в
местечке заболел парикмахер, спустя неделю умер — оказалось, тиф. Не прошло и
месяца, как вымерло половина местечка. Умерли и бабушкины дети. В хате на краю
села лежала мертвая женщина, все боялись подходить к ней, боялись заразиться.
Пошел бабушкин муж, он сказал: «Похороню ее, и Бог мне воздаст». Заразился и
умер. Тогда-то бабушка взяла на воспитание детей своей умершей, тоже от тифа,
сестры: мою маму и ее младшего брата Пейсю. Будучи когда-то истово верующей, она
больше не справляла религиозных праздников, но в случае грозящей беды, если
кто-нибудь заболевал, всегда говорила: «Гот зол унз упитн — Господи, сохрани».
Тиф в Жмеринке, рассказывала бабушка, сменился НЭПОМ, наладилась торговля. Не
закрывались двери ее бакалейной лавочки, а в русские праздники, на Пасху, она
выносила мужикам четверть водки и блюдо с разделанными селедками. Товар в лавке
продавался и оптом, и в розницу, в долг и за наличный расчет. Односельчане
настолько привыкли отовариваться здесь, что спустя много лет после войны открыли
на этом месте огромный бакалейный магазин, словно памятник доброй еврейской
женщине, прощающей долги ближнему.
Бабушка всегда работала, даже в девяносто три года, согнутая в три погибели, она
не могла сидеть без дела: мыла, чистила, убирала. Вот только забывала, что куда
клала. Однажды я спешила на работу и не могла найти сумку.
— Ну куда ты ее положила? — кричала я не в силах сдержать раздражение, — куда?
Бабушка топталась на месте, смотрела беспомощными глазами и не знала, что
сказать.
— Не убирай! Сиди, лежи, только ничего не делай.
Ничего не делать бабушка не могла. Молча она достала припрятанную чистую
рубашку, чулки, платок, завязала все в узелок, открыла дверь и вышла на
лестничную площадку. Я за ней: «Куда ты собралась?»
— Пойду к тете Этне.
— Но тетя Этна давно умерла.
— Умерла? — переспрашивает бабушка и опускается на ступеньку, втягивает голову в
плечи и смотрит в никуда. Тетя Этна — старшая, любимая бабушкина сестра. Бабушка
рассказывала, что они все пятеро сестер, чтобы скопить на приданое деньги, шили
телогрейки и возили свой нехитрый товар в Винницу к останавливающимся на
разъезде поездам.
— Пойдем домой, я же тысячу раз тебя просила, не убирай, раз забываешь, куда
кладешь. Мне уходить надо, я опаздываю.
Бабушка тяжело поднимается. «Где-то заблудилась моя смерть, — жалуется она, —
зачем я живу, дети мои давно умерли, а я живу».
Однажды под утро сквозь сон удивилась непривычной тишине; обычно просыпаюсь под
медленный, едва слышный шорох бабушкиных шагов.
-Ба-аб, — тяну спросонья. Тишина. — Ба-а-ба, — снова окликаю я, и снова тихо. Со
страхом поднимаюсь, подхожу к бабушкиной постели. Она лежит на спине с
запрокинутым лицом и открытым ртом. — Ба-ба! — Она едва шевельнула рукой, с
огромным усилием дотянулась до ворота рубашки и потянула его, обнажая грудь. Она
хотела, чтобы я её вымыла.
Что делать? Вызвать врача! «Ало! Ало!» — кричу я в трубку; кажется, что чем
раньше придет скорая помощь, тем больше надежды всё исправить. Снова подхожу к
постели. Бабушка опять делает попытку оттянуть ворот рубашки.
-Ты не бойся, если умрешь, тебя вымоют по всем еврейским правилам.
Мне почудился ее облегченный вздох.
В первые дни думала, что бабушка еще встанет. Я поила ее из ложечки чаем,
сливками, но питье булькало в горле, текло по подбородку на шею, на подушку.
«Оставь меня, дай умереть», — казалось, просит она, а я поила, и ей ничего не
оставалось, как с усилием глотать. В постели бабушка казалась особенно маленькой
и худой. Я вытаскивала из-под нее мокрые простыни, подсовывала сухие; тело
напрягалось, это напряжение означало нежелание никого обременять собой. «Какая
мне разница, лежать на сухом или на мокром», — сказала бы она. Насильно
подсовываю сухую простыню, бабушка смиряется, расслабляется и даже, кажется,
пытается помочь одной рукой. Дышит редко, тяжело. Умирает. Я легонько погладила
ее по щеке, бабушка замерла от неожиданной ласки, и через мгновение из закрытого
глаза поползла тяжелая мутная слеза. Это была единственная наша ласка. К
нежности мы, дети, были не приучены, у бабушки не хватало на то времени, она, не
разгибаясь, работала, а может, стеснялась выражать свои чувства.
Вернуть бы то время, я бы не отходила от бабушкиной постели все те восемь дней,
пока она лежала. Я тогда не думала о том, что буду мучиться потом, мучиться
представлением состояния родного человека, оставленного умирать.
Мы все время спешим куда-то. Спешим куда-то успеть, в чем-то утвердиться. Но что
бы мы ни делали, никогда не можем уйти от своего начала. Моим началом была
бабушка, я и внешне похожа на нее. Часто ловлю себя на том, что так же, как она,
сижу, вобрав голову в плечи, устремив взгляд в никуда.
Когда бабушку обмывали в еврейской общине на Востряковском кладбище, я зашла
дать тем женщинам с засученными рукавами и в клеенчатых фартуках деньги, чтобы
лучше вымыли, и поразилась, до чего маленькое, истончившееся было тело, а руки
натруженные, узловатые и непомерно большие. В гробу бабушка в белом саване -
просветленная. Она из года в год безответно работала, только давала, ничего не
требуя взамен. К этому настолько привыкли, что казалось, иначе и быть не может.
Кисти рук лежат на груди, будто еще и душу предлагает. Смотрю в мертвое лицо.
Бабушка уже не с нами, теперь до нее не докричаться — прости меня!
Мерзлую землю долбят ломами, вынимают смерзшиеся глыбы. Мороз ужасный, больше
тридцати градусов. Гроб, покрытый черным покрывалом с желтой каймой и
магендавидом, стоит на краю могилы. У гроба мама, брат и я. Служитель синагоги
читает поминальную молитву на иврите, затем обращается к маме по-русски:
— Кем она вам приходится?
— Тетей, — не сразу отвечает мама.
И на русском же языке служитель продолжает:
— Дорогая тетя Хая, если тебя кто-нибудь обидел из рядом стоящих, прости их,
пусть они будут живы, здоровы. — Последние слова щуплый в ветхом одеянии еврей
выкрикнул простуженным голосом, и губы его опали. В который раз он протянул нам
жестянку с облупившейся черной краской, мы сунули туда рубли, и дрожащий на
холоде ребе, соединяющий тот и этот мир, поспешно ушел.
Краснощекие могильщики кряхтя опускают гроб. Я прошу Бога, чтобы там, в
сущностном мире, бабушкина душа пребывала в радости и любви. Страшно не то, что
человек умирает, это неизбежно. Страшна непоправимость, невозможность вернуть
ему долг любви и тепла. Стучат мерзлые комья земли. Кто-то говорит за спиной:
«Бросьте кусочек земли». И я бросаю, бросаю, мне кажется, что земля, которая
упадет из моих рук, согреет ее.
В пересыпанную снегом землю воткнули дощечку:
ФУРМАН
Хая Фишелевна
Еще немного постояли и стали расходиться. Тяжелей всех мне — меня бабушка больше
всех любила.
С годами Лина все больше становится похожей на бабушку, все больше уходит в
себя, скорбно сжимает рот; и взгляд становится смиренным, всепонимающим. У
каждого своя эпидемия: у бабушки - тиф унес сыновей и мужа, а она всего лишь не
может устроиться на работу. Бабушка хотела защитить своих близких скопленными по
копеечке несколькими золотыми монетами и тощей связкой серебряных ложек. Лина же
хочет защититься от судьбы представлением о мире, где человек живет, сообразуясь
с должным, согласно законам правды и справедливости. Потом она узнала, что этот
сущностный мир назван миром идей.
Еще в школе Лина постоянно думала о том, каким образом сделать так, чтобы
чувства и мысли одного стали понятны другому. Тогда не будет больше насилия,
обмана и несчастной любви. Но ведь все люди разные: один, например, сидит на
уроках тихонечко, как мышка, и никогда не возражает учителю, а другой, что
думает, то и говорит и потому часто оказывается в дураках. Девочка догадалась:
это всего лишь форма самовыражения, а суть человека, его устремления скрыты от
нас. Из суммы желаний и мыслей всех людей, наверное, складывается нечто общее -
«мировая душа», которая, в свою очередь, определяет судьбы последующих
поколений. Читая книги, Лина набрела на философию. Человек делается тем, о чем
думает.
Мы сами определяем свою судьбу. Ну, зачем ей понадобилась философия? Тихо-мирно
сидела бы в каком-нибудь конструкторском бюро за логарифмической линейкой, или
выучилась бы, как ее кузены, на стоматолога. Тем более, что стоматолог очень
даже традиционная еврейская специальность. В «Московских ведомостях» за 1916 год
значится, что высшие стоматологические курсы окончили: один — из князей, пять
человек — купеческого сословия, семь — разночинцев и девяносто — еврейского
происхождения. На курсы стоматологов, в отличие от других учебных заведений,
никогда не было ограничений в наборе инаковерующих.
Из эвакуации Линина семья приехала в Москву, возвращаться в Одессу было не к
кому, — все оставшиеся там родственники погибли, — и некуда: в дом, где они
жили, попала бомба. А в Москве жил дядя, мамин младший брат. Фронтовик,
прошедший войну от первого до последнего дня, от солдата до капитана, он имел
право прописать сестру.
После войны евреев на работу не брали, мама долго обивала пороги министерств и
ведомств. Наконец, взяли на строящуюся в далеком пригороде электростанцию. А до
тех пор жили в семье других московских родственников - стоматологов.
Стоматологами были Линины двоюродные братья, а отец их — подвижный, тщедушный
старичок - скорняком. Звали его Изя. Сидел Изя на низкой табуретке у окна, и
согнувшись, чинил меховые шапки, шубы. Прежде чем приняться за новый заказ,
долго разглядывал плешивые, траченные молью шубы, любовно расправлял мех,
гладил. Потом кроил, комбинировал, складывая обрезки меха, даже самые маленькие,
в разные мешочки. Когда подбирал ворс, прикладывал куски и так и эдак, что-то
шепча себе под нос. Изя священнодействовал, ничего не замечая вокруг. Казалось,
случись сейчас пожар, он так и не выпустит из рук драную кошачью шапку.
Сыновья Изи, в отличие от отца, толстые и шумные. «Пока у человека тридцать два
зуба, - радуются они, - нам море по колено». Жены стоматологов все время
примеряют обновы. Сначала Бетя купила две пары домашних тапочек: себе и Фире.
Потом Фира купила две пары тапочек: себе и Бете. И столько по этому поводу
радости, разговоров! Тапочки красненькие, тапочки синенькие.
По воскресеньям кузены собирались в баню. Укладывали в одинаковые, с железными
нашлёпками по углам, чемоданчики, полотенца, мыло, мочалки, чистое белье, по
несколько раз проверяли, не забыли ли чего. Возвращались всегда в одной и той же
компании: с двумя краснолицыми коротконогими приятелями, тоже братьями. Мужчины
закусывали шпротами «Столичную» и говорили о том, что за деньги можно купить
все, любую красавицу. Недоступных женщин нет, свези любую на юг, и она твоя.
Лина их ненавидела. Если деньги всемогущи, если нет ничего, что выше денег, — не
стоит жить, жизнь тогда не имеет смысла.
— Красотка, пойдем со мной. Чего оглядываешься, я тебе говорю.
Лина сидит на скамейке у Патриарших прудов. Темно. Ни одного прохожего. Перед
ней мужчина лет сорока, спортивный, мускулистый. Вспомнив, что отсюда недалеко
посольство и если закричать, милиционер услышит, Лина успокоилась и стала
вглядываться в ночного искателя радостей. Все, казалось, на месте: нос, рот,
глаза, но лицо ничего не выражало, лица не было. Что-то вроде матерчатой куклы,
куклу сшили, а лицо забыли нарисовать. Мимо такого пройдешь, не заметишь.
— Ну же, вставай! Я только сегодня из-за границы вернулся. Все есть. Вино есть.
Хорошие сигареты. Вот только женщины не хватает. Пойдем, не пожалеешь.
— С женщины нужно начинать. А за границей охранником-топтуном служили? —
неожиданно для себя спросила Лина.
— Откуда ты знаешь? — растерялся случайный прохожий и, словно спохватившись,
кинулся прочь, растаял в темноте, будто его и не было.
Волка ноги кормят. Утром Лина отыскала по Мосгорсправке телефон НИИ школьного
обучения, позвонила, узнала о присутственных днях сектора преподавания
литературы в школе, надела свой вицмундир — старый темнозеленый костюм, который
надевался только по ответственным маршрутам, и отправилась по указанному адресу.
Через час она поднималась на третий этаж, где размещался нужный сектор. На
лестнице встретила несколько оплывших теток со скучными, неподвижными лицами. То
ли потому, что школа была самым тяжелым временем в Лининой жизни, то ли это
помещение давно не проветривалось, но в НИИ школьного обучения было пыльно и
тоскливо. Завсектором оказался на совещании. Лина хотела ему предложить свою
методику преподавания литературы в школе, где бы учитывалось эмоциональное
отношение детей к прочитанному тексту. Подобная методика предполагает переход от
бессознательных, эмоциональных предпочтений - к культуре чтения, пониманию
механизмов творческого мышления.
В ожидании конца совещания, Лина слоняется по пыльному коридору, смотрит стенды,
свидетельствующие о росте процентов успеваемости в школах, вглядывается в лица
проходивших мимо учителей–методистов, и все больше понимает: школа осталась
таким же дохлым местом, каким была много лет назад.
Наконец, двери конференц-зала распахнулись, и оттуда повалил народ. В зале с
плотно сдвинутыми рядами стульев нечем дышать — совещавшиеся поглотили кислород.
Лина пытается угадать среди них зава и не может. «Вон тот, — указала ей
единственная здесь молодая женщина и почему-то заговорщически улыбнулась, —
ловите его, а то уйдет на заседание дирекции». И Лина направилась к давно не
молодому, приземистому человеку с круглым, выкатывающимся из расстегнутого
пиджака животом. Голова у него тоже круглая, круглая и голая. Он шел прямо на
неё, словно слепой. Когда столкнулись, искательница работы почтительно
отступила, поздоровалась, и сказала, что хотела бы поговорить с ним, но зав не
удостоил ее даже взглядом. Вспомнились стихи Маяковского «И не повернув головы
кочан...»
Ничего не оставалось как идти следом. Её опередил проворный, средних лет молодец
в замшевом пиджаке. Шагая за ним, Лина видела засаленный воротник пиджака,
дряблую, угодливо изогнувшуюся шею. Просительница старается не отставать.
Конкурент на внимание зава похож на Хлестакова, он что-то шепчет своему патрону,
но тот его не слушает. Все трое столкнулись у дверей кабинета. Ситуация
становилась комичной. Хлестаков доказывал шефу, что тот ему ничего не должен:
«Подумаешь, пустяки. Вопрос закрыт. Считайте, что я подарил вам эти книги,
всего-то десятку стоят, о чем разговор». Лицо шефа оставалось бесстрастным.
Наконец, пыхтя и отдуваясь, он взгромоздился за свой огромный пустой стол, его
маленькие ножки свешивались с кресла, не доставая пола.
Лина подступила к заву совсем близко.
— Здравствуйте, — повторила она приветствие. После чего последовал чуть заметный
кивок головы, который можно было понять как разрешение говорить.
— Я по поводу работы, то есть я хотела предложить свои услуги в разработке
методики преподавания литературы в школе.
— Кто вы?
— Философ.
— Философы нам не нужны.
— Но мой диплом сделан на филологическом материале.
— Все равно не нужны, вы не специалист.
— У меня статья недавно вышла на эту тему в сборнике «Педагогика и творчество».
— Я же вам сказал, — досадливо дернулся шеф, — абстрактные философские разговоры
нам не нужны. Мы ищем сотрудника, имеющего опыт работы с детьми.
— Но, может быть, вы все-таки позволите, я вам расскажу свою концепцию,
постараюсь коротко, в двух словах, — дерзко настаивала Лина.
Тело зава колыхнулось, что означало удивление её нахальству.
— А как ваша фамилия? — словно что-то заподозрив, спросил он.
Лина назвалась.
— Очень знакомая фамилия. Где я мог ее слышать? — В голосе появилось почтение.
— Это ваши проблемы, — нарочито независимо бросила Лина. Вдруг из круглого тела
выплыли глаза — маленькие, черненькие и внимательные, словно человек, наконец,
проснулся. Посетительница не отвела взгляда, смотрела так, словно он от нее
зависел, а не наоборот. Бывают такие приступы хулиганства.
— Вы сами ко мне пришли, или вас кто-нибудь прислал? — вкрадчиво спросил хозяин
кабинета.
Лина выдержала длинную паузу и уклончиво ответила:
— Пожалуй, сама. — По двусмысленности ответа можно было заключить, что пришла
она не с улицы, а от влиятельного лица.
— Конечно, мы с удовольствием познакомимся с вашей разработкой, сделаете у нас
доклад, — оживился зав, — впишитесь в нашу методику.
— У меня своя методика.
— Очень хорошо, и своя тоже хорошо. Сейчас я спешу на совещание к директору. А
вы приходите. Непременно приходите. Мы ждем вас, — зав даже выбрался из-за стола
и почтительно проводил Лину до двери, чуть было ручку не поцеловал.
Больше они не встречались. Лина понимала, что первое, о чем справится зав, — не
случайно ли ее фамилия ассоциировалась у него с фамилией сильного мира сего. Как
только узнает, что самозванка, тут же потеряет к ней интерес. Да и не найти ей
общего языка со школьными учительницами, выживающими из своей среды любого,
мнение которого не соответствует их устоявшимся представлениям о педагогике. Ну,
сходит она на заседание сектора, сделает доклад. Старые учительницы возмутятся,
что она не специалист, не знакома с написанными ими брошюрами. Камнями закидают.
Это уж было однажды, когда она обратилась в общество «Знание» с предложением
выступать с лекциями о художественной литературе как средстве эстетического
воспитания. Текст лекции отдали на рецензию, как Лине сказали, заслуженным
работникам просветительского фронта. Спустя несколько месяцев она, наконец,
встретилась с этими ветеранами умственного труда. Шла на свидание, предвкушая
интересный разговор. Думала, рецензенты бросятся ей навстречу, будут говорить,
что, конечно же, этот метод индивидуального подхода выявляет направленность ума
подростков, стимулирует их творческое воображение; его немедленно нужно
использовать при всех видах обучения.
В методическом кабинете общества «Знание», куда ей велели придти, никого, кроме
двух очень пожилых женщин, не было. Женщины стояли к ней спиной, и по их неумело
сшитым старушечьим сарафанам и неопрятно прибранным волосам можно было понять:
это кто-нибудь из технического персонала. Лина присела на стул — стала ждать.
Спустя несколько минут старушки разом развернулись и с одинаково злым выражением
на кургузых личиках спросили, кто она такая и что ей нужно. Узнав, что именно ее
работу будут сейчас обсуждать, разом заговорили: «Безобразие! Произвол! Кто вам
позволит? Где вы работаете?» Когда же выяснилось, что не работает, вскричали:
“Куда смотрит общественность?! Ваш подход к воспитанию советской молодёжи никуда
не годится! Ничего не сказано ни о соцреализме, ни о соотношении формы и
содержания, и нет ни одной цитаты наших классиков!»
— Каких классиков? — недоумевает Лина.
— Белинского и Добролюбова, — с достоинством прямых наследников русской
критической мысли говорят старушки.
— Но у меня другая задача.
— Мы пятьдесят лет работаем в школе, столько же читаем лекции в обществе
«Знание», и не вам нас учить.
Эти две старые жабы вернули к самому тягостному воспоминанию детства — школе.
Особенно ненавистной была учительница по литературе. Плоская, с сухими ногами и
всегда поджатыми губами, она вызывала к доске до тех пор, пока назубок ей не
отчеканишь цитаты Белинского и Добролюбова. «У меня плохая память», — жаловалась
Лина, и получала от Валентины Васильевны очередную двойку и такую гневную
отповедь, что чувствовала себя чуть ли не изменником родины.
Подобное состояние было в эвакуации в Сибири, когда Лина во втором классе
написала в диктанте слово «Сталин» с маленькой буквы. Она постоянно слышала это
слово и решила, что «Сталин» это не имя, а что-то вроде символа, вот и
гидролизный завод, около которого они жили и где делали спирт из опилок, тоже
назывался «Сталинец». В классе пять учеников написали «Сталина» с маленькой
буквы, их всех выстроили у доски, и всегда добрая молодая учительница с длинными
белыми косами говорила, что им не место в советской школе и советской стране.
В то время, когда некуда было направиться в поисках работы, Лина чувствовала
себя особенно неприкаянно. Вспоминалась возможность другой, устроенной, жизни.
Быть бы ей сейчас такой же благополучной женой, как Галя Аниканова, не вырвись
как пробка из бутылки, безудержное желание сказать то, что на языке вертится.
Это было еще в пору, когда жила в студенческом общежитии. Однажды крупно
повезло. Везение у живущих в общежитии девочек определялось однозначно — выйти
замуж за москвича. Лина прыгала от радости, когда Леня, высокий, стройный
блондин с вьющимися волосами и серыми близоруко щурившими глазами пригласил ее
домой показать родителям.
С Лёней познакомилась на танцевальном вечере. То был удивительно счастливый
вечер, ей везло как никогда. Сначала выиграла в лотерею огромную хлопушку-пушку,
которая выстрелила густым столбом конфетти. Потом ей достался первый приз —
белый плюшевый слон — за лучшее исполнение бального танца. И партнером был Леня.
Пригласил на вальс и больше не отходил. В центре круга танцующих скользил седой
балетмейстер в лакированных бальных туфлях. «Раз, два, три. Раз, два, три», —
певуче повторял он. Время от времени галантно раскланиваясь, отстранял Леню и
демонстрировал с Линой отдельные па. Лина так и не поняла, за что достался ей
первый приз — или она в самом деле танцевала лучше всех, или у нее самая тонкая,
приглянувшаяся балетмейстеру талия.
Кончилось тем, что Леня увел ее в тир. И там случилось новое чудо. Никогда
раньше не стрелявшая, она попала в мишень девять раз из десяти.
— Попробуй еще, — ликовал Леня. Но Лина не хотела искушать судьбу.
Леня весь вечер ходил за ней, как привязанный, а когда проводил до общежития,
так призывно смотрел, будто только от нее зависело сделать его счастливым на всю
жизнь. Они встречались каждый день, а спустя неделю, Леня сказал, что папа и
мама хотят увидеть, с кем он проводит время.
Лина помнит, как топталась в прихожей, снимала туфли, устраивала на резиновом
коврике у двери мокрый зонтик; чтобы с него не накапало на паркет. Рядом стояла
красивая, приветливо улыбающаяся рыжеволосая женщина — Лёнина мама. Было такое
чувство, что её давно ждут в этом доме.
— Линочка, что же вы в чулках стоите, наденьте мои тапочки, замерзнете, —
ласкающим голосом говорила Ленина мама. — Обманчивый месяц март, то снег, то
вдруг дождь пойдет. Кажется весна, солнце, а на самом деле зима, холод. Пойдёмте
скорее чай пить, согреетесь.
Сидели за столом, пили чай. Во главе стола Ленина мама со взбитой прической и
великолепным воротником из вологодских кружев. Она разливает чай и предлагает
есть домашний пирог. Гостья знает: пирог положено хвалить, но язык не
поворачивается говорить банальности, что-то вроде: «Какой замечательный пирог!
Как вы его готовили?» И мама будет долго рассказывать: сначала нужно взять яйца,
отделить белок от желтка, взбить белок с песком, положить стакан муки и так
далее. Рядом с мамой - папа. Ленин папа. Плотный, большой, в добротном костюме,
и, судя по тому, как держится, — большой начальник. Что начальник, ясно и из
того, что они получили трехкомнатную квартиру с прихожей и большой кухней. Тогда
гражданское строительство в Москве только начиналось, квартиры получали
избранные, особенно нужные люди.
Раньше, рассказывал Леня, он с родителями жил в одной маленькой комнатке на
проспекте Мира в здании метро «Ботанический сад». Сейчас у них хоромы. Правда, в
новом районе еще нет метро, но его уже строят, и специально для Лениного папы,
подведут к самому подъезду. Трехкомнатная квартира на троих — неслыханная
роскошь. Впрочем, квартиру, как объяснил Ленин папа, дали впрок, ведь Леня
женится, у него будет семья.
Как уютно было сидеть за вечерним чаем: мама, папа, Леня и гостья — его
предполагаемая невеста. То были смотрины. Время от времени для уверенности Лина
поглядывает на Леню, взгляд его из-за перекосившихся очков беспомощен, рот
расслаблен. Леня - историк. Наедине он самостоятельней, рассказывает об
археологических раскопках, о том, по каким признакам устанавливаются места
древних цивилизаций. Он знает место в Крыму, где зарыт клад. Они летом
собирались поехать туда.
Лина, как стратег на поле боя, оценивает обстановку: в этом доме ничего от Лени
не зависит. Главное - понравиться родителям. Кажется, она им подходит, особенно
благосклонен папенька: скромная двадцатилетняя студентка с румяными щеками,
вполне соответствует благопристойной семье. Даже представила, как Ленин папа
будет знакомить её со своими гостями: «Наша дочка». Лина всегда мечтала о доме,
где есть папа. Вот только Лениных родителей смущало то обстоятельство, что она с
периферии. Нет, не манерами — вела себя прилично: не набрасывалась на пирог,
хоть ужасно хотелось. Такого вкусного рассыпчатого пирога с абрикосовым джемом
никогда раньше не ела. Взяла только один кусок, думала, Леня догадается положить
второй, но он все так же безучастно смотрел из-под съехавших набок очков. Ему,
маменькому сынку, невдомек, что студент, живущий в общежитии, постоянно хочет
есть.
Мысль о том, что девушка из далекого пригорода, родителей угнетала. Не опасно ли
её прописывать, не отберёт ли она у них комнату? Хоть Лёнин папа большой
начальник, но закон сильнее его. Вот и ёрзают родители, и так и эдак спрашивают,
выведывают её нравственные принципы. На все вопросы о дальнейших планах гостья
отвечает как примерная школьница. Дескать, получит диплом, будет работать в НИИ,
может быть, в институте философии, это предел желаний.
— Где? — переспросил Ленин папа.
— В институте философии, но туда очень трудно попасть.
Ленин папа отлучился в другую комнату, принес блокнот, толстую авторучку с
золотым пером и записал название института, адрес.
— Ну, а потом? — допытывался папа.
— Буду писать диссертацию.
Папа с мамой согласно кивают: и этот ответ им понравился. Однако не терпелось
перейти к главному, и папенька спросил напрямик:
— Вы, когда университет окончите, наверное, в Москве захотите остаться?
— Захочу.
Наступило молчанье.
- И что вы для этого сделаете? — вкрадчиво спросил папенька.
Лина, изображая скромницу, опустила глаза. Но тут же чувство независимости взяло
вверх, она подняла голову и выпалила:
— Выйду замуж, разведусь и отберу комнату.
То был первый и последний визит. Она потеряла жениха. «Дура!» - говорили соседки
по комнате в общежитии. Лина и сама знала, что дура. Но мы часто не вольны в
своих поступках. Опасения Лениных родителей вызвали то невольное чувство
противодействия, которому подчиняешься, стоя на доске качелей. Если с одной
стороны доски поддадут, ты летишь вверх и со всего маху возвращаешь подачу. Зато
какая радость взлета! Так Лине и запомнилось с того вечера неудержимое желание
сказать то, что на языке вертится, и еще запомнился роскошный воротник Лениной
мамы из вологодских кружев, он казался символом семейного благополучия. Не
огромная квартира, не бриллиантовые серьги несостоявшейся свекрови, а
вологодские кружева.
<<<НАЗАД
К ПРОДОЛЖЕНИЮ 2>>> |