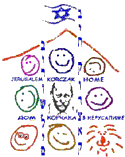|
История
женщины, "интеллигентки в первом поколении", которая, приехав из провинции
в Москву и закончив философский факультет университета пытается найти себе
применение в этой жизни (Москва 70-80х годов), так мало приспособленной
для неё по всем показателям - и как для философа,
и как для женщины, и как для еврейки ...
... с которой я ходил в одно и то
же время по одним и тем же улицам, пытаясь найти себе применение в одних и
тех же учреждениях... Да и обстоятельства личной жизни на удивление схожи.
Воспоминания о тех годах для меня - сплошная боль, и меня страшит сама
мысль погрузиться в неё и совладать с ней ради чего-то высшего и светлого.
А, может, просто душевная ленность... Значит, Дина Ратнер сделала
это за меня. Мне же только остаётся с благодарностью к автору попытаться
довести его повесть до возможно большего числа людей, в которых она,
как во мне, затронет созвучные струны... И до молодёжи - как дорогой ценой
давшийся опыт и предостережение.
Михаил
Польский |
Лина Матвеевна восхищалась людьми, умеющими в два счета договориться с продавцом
на предмет дефицита, поладить с кассиром «Аэрофлота» и купить билет на самолет
за день до вылета, И с начальством у них, как правило, нет проблем. Только
заикнутся, что нужно денек-другой не прийти на работу, — пожалуйста.
Для нее это была безнадежная затея, потому как не умела просить. Вот и сейчас,
пришла на почту и протягивает в окошко немолодой крашеной блондинке паспорт:
потеряла, говорит, извещение на посылку, посмотрите, пожалуйста, в вашей
картотеке посылочных квитанций мою фамилию. А та ей в ответ: «Не обязана я вам
ничего смотреть, давайте извещение».
— Но я его потеряла.
— А я при чем, — раздраженно ответила женщина в линялом черном халате;
закатанные по локоть рукава обнажали её немолодые, жилистые руки.
— Как же теперь быть?— нетерпеливо спросила Лина Матвеевна.
— Идите в свое отделение связи, пусть вам выпишут новый квиток, — скороговоркой
проговорила блондинка, и протянула руку за извещением следующего очередника.
— Так ведь не успею, вы в семь часов кончаете работу, — продолжала топтаться
перед окошком Лина Матвеевна. И, не дождавшись ответа, отправилась в свое
отделение связи. Через сорок минут, долго не было автобуса, она подошла к
закрытой, обитой жестью двери, и прочитала, что по четвергам почтовое отделение
работает до 15.00. Снова вернулась за посылкой и пытается убедить служащую в
том, что перебрать несколько извещений проще, чем ехать в другое почтовое
отделение, тем более, там закрыто.
— Некогда мне с вами заниматься, — дернулась свирепая женщина, — у меня народ.
Надрываешься тут за сто рублей с утра до вечера. Потаскали бы ящики на моем
месте.
— Давайте, я сама посмотрю. А то в посылке яблоки, сгниют, пока получишь.
— Вот еще, так я вам и доверила свои дела.
Терпеливо дожидающаяся очередь безмолвствует. Лина Матвеевна досадует, что
потеряла время. Теперь неизвестно, когда удастся выкроить вечер, и яблоки
испортятся. Вчера из Тбилиси позвонили: месяц прошел, как выслали посылку.
— Жалобу на вас напишу, — бессильная изменить ситуацию, говорит просительница.
— Пиши, пиши, старая дура.
Дать бы себе волю и отхлестать эту стерву по морде, так ведь заберут в милицию
или в психушку отправят. От сдерживаемого гнева вконец портится настроение,
хочется убежать, спрятаться и плакать навзрыд. Она ведь и в самом деле никчемная
старая дура. Жалобу, конечно, писать не будет, это скучно, да и времени жалко.
Другая бы подошла к окошку, протянула бы шоколадку и сладким голосом пропела:
«Милля девушка, вы меня премного обяжете, если возьмете на себя труд...» и так
далее, язык, что ли, отвалится эдак попросить. Но Лина Матвеевна не умеет
просить. Все свои беды она объясняет неумением сориентироваться в ситуации.
Спиноза зарабатывал тем, что шлифовал стекла, а по ночам писал философские
трактаты. Вот и ей бы так: днем сидеть в послушных начальству советских
служащих, а ночью писать о свободе воли. Так нет же, сделала философию своей
профессией.
«Волен ли человек выбирать свою судьбу или судьба выбирает нас?» — эта проблема
встала перед Линой Матвеевной, когда ей было двенадцать лет. Она пасла козу на
холмистом, поросшем мать-и-мачехой берегу реки. По реке ползли серые баржи с
нефтью, накрапывал холодный дождь. Длинноногая, конопатая девочка-подросток,
накрывшись куском старого брезента, смотрит на деревню, в которой всего лишь
одна улица. Улица кончается рекой, а начинается — засеянным горохом полем.
Лина жила здесь с мамой, бабушкой и братом. Они приехали в Москву из эвакуации в
пятьдесят втором году, тогда евреев на работу не брали, и Линина мама устроилась
сюда, в далекий пригород, инженером на строящуюся электростанцию. Пока дома для
служащих не построили, они жили в избе Серафимы Марковны — тихой, со всеми
соглашающейся женщины.
С высокого берега реки просматривается каждый дом с сараями, огородами; у кого
картошка уже окучена, у кого только взошла. Как на ладони видна разоренная
церковь и кладбище с покосившимися крестами могил. Лина ищет взглядом могилу у
самого края кладбища, представляет себе смущенно улыбающегося мальчика на
вделанной в свежеокрашенный крест фотографии: «Ваня Роднянский» и даты жизни, из
коих следует, что было ему всего восемнадцать лет. Серафима Марковна говорила,
что фотография школьная, другой не было. Хозяйка избы рассказывала про Ваню:
— Были у нас в деревне два пацана, на медали школу пооканчивали. Упорные. Школа,
сама знаешь, не близко, четыре километра туда и столько же обратно. Ладно,
погода хорошая, а если дожди, снег, пурга, недолго и с дороги сбиться. Так вот,
после школы пацаны эти поехали в Москву, в самый главный институт учиться,
забыла, как называется.
— Университет, — подсказала Лина.
— Он самый, — согласилась Серафима Марковна.
— На Ленинских горах.
— Вот, вот. Дети там - не чета нашим деревенским. Всё им легко давалось, и жили
они при родителях, а наши — в общежитии. Ваня упорный был, что ни надумает,
сделает. Другой, Васька, тоже знал свое дело, только был он поуступчивее,
хитрый; при случае и слукавить мог. Прельстились они городскими вертихвостками,
небось, еще покрасивше повыбирали. Те смеются над ними: и говорят, дескать, не
так, и одеваются не так, и книжки не те читают. Ваня отошел от всех, все один да
один. Это уж потом Васька рассказывал. Сначала-то они вместе были, не чужие,
чай, — из одной деревни. Только потом Васька женился, повариху себе нашел, и
зажил припеваючи. А Ваня один остался. Бывало, праздник-не праздник, все сидел в
общежитии за своими книжками. Под Новый год не вытерпел, признался своей
зазнобе, замуж позвал. Та подняла его на смех. Прости ей, Господи, горя не
знала. Все Новый год ушли справлять, а он один в комнате остался. Напился, и
выбросился из окна общежития на двадцатом этаже. Родителям телеграмма пришла.
Убивались как! Раньше все им завидовали — сын умный, непьющий, далеко пойдет...
Похоронили здесь, у церкви. Вся деревня деньги собирала, чтоб гроб привезти. —
Серафима Марковна помолчала, поправила платок и снова заговорила:
— А Васька, как закончил учение, выше стал учиться, жену свою, повариху, бросил,
не посмотрел, что двое детей. Говорят, новая жена – ученая, и родители у неё по
ученой части. Повариха тоже не в обиде, деньги от него большие получает, на лето
ребятишек в деревню Васькиной матери отправляет. Вот и реши, — задумалась
хозяйка, — кто из них правее. Ваня-то горе одно после себя оставил.
Приглядывая за козой, как бы не спустилась к реке — к берегу волной прибивает
мазут, влезет в эту грязь, потом не отмоешь, — Лина думала о том, что каждый
поступает, как может. Про себя знала, что жить как Васька не смогла бы. «Но
Ваня-то горе одно после себя оставил», — в который раз вспоминались слова
Серафимы Марковны. Лина почему-то чувствовала себя виноватой перед умершим
мальчиком и его мамой — растерянной женщиной в старой телогрейке, всегдашнем
черном платке и беспомощно вопрошающими глазами. И еще Лина гнала от себя мысль,
что умер ее суженый, и останется она теперь одинокой.
Перед домом Серафимы Марковны, на бревне, отполированном солнцем, дождями и
задами женщин на посиделках, с утра сидит старик. Серафима Марковна говорила,
что ему сто лет. Сидит неподвижно, словно неживой, и всегда в одной и той же
позе: палка подпирает лежащую на сложенных ладонях голову. Он, наверное, думает,
что скоро умрет, и не хочет умирать. Лина избегала его взгляда, было жутко: не
втянул бы он в свою старость. Так боятся смотреть в только что вырытую могилу.
Серафима Марковна, замотавшись между печкой, огородом и колодцем, присаживалась
к старику перевести дух, и Лине чудился их немногословный разговор; дед на все
отвечал так же, как и их хозяйка: «Ну и ладно», «Ну и хорошо». А на самом деле,
и не ладно, и не хорошо.
— На все воля Божья, — наставляла Лину Серафима Марковна, — нужно нести крест
свой, роптать - грех, а самый большой грех — насильственно лишать себя жизни,
свою волю ставить выше воли Господней.
Так говорила Серафима Марковна, а Линина бабушка - Хая Фишелевна, словно
состязалась с Богом, она кричала о справедливости не там — в царстве не от мира
сего, а здесь, — на земле.
-- Ты читай, читай, — говорила она Лине, — учись, евреи — народ Книги.
«Премудрость, Слово было в начале», — словно вглядываясь во что-то невидимое, но
самое сокровенное, говорила бабушка, и на мгновенье забывала свою вечные хлопоты
по хозяйству. Читать по-русски она не умела, когда-то в местечке выученное на
иврите Святое Писание, знала по памяти.
— Ты учись, — повторяла бабушка, — у меня есть несколько золотых монет, это
большие деньги, я тебе их отдам, чтобы ты училась. Я все сама сделаю — и она
стирала латанное-перелатанное белье, рвала и сушила траву для козы, варила
картошку. Поспешность сменялась отрешенностью: бабушка словно цепенела,
сгорбившись, сидела на сундуке, устремив взгляд серо-голубых глаз в неведомые
дали.
Приземистые домики деревни Лине виделись такой же принадлежностью земли, как
кусты смородины, грядки с огурцами, жёлтые кувшинки в воде залива. И жизнь людей
не отделялась от земли; морозы сковывали землю – люди замирали в своих быстро
стынущих избах; весной земля оттаивала, и люди словно просыпались – вскапывали
огород, месили глину. Девочке часто казалось, что жизнь, которая ее окружает, не
настоящая, будет еще другая — главная; знать бы только, что нужно делать, чтобы
прорваться к этой главной жизни.
Сменив несколько увлечений, Лина вырулила на философию, где осмысление бытия,
идеальные представления о должном, спасали от тоски обыденности. Окончив
философский факультет, она узнала слова, которыми обозначаются свобода души и
поиски человеком самого себя. Мы будто следуем за указывающей путь летящей
стрелой. Это и есть свобода. Вопросы свободы и необходимости не за гранью
реальности, это действительность, которую можно осознать, но не всегда совладать
с нею. Случается, человек, не в силах справиться с обстоятельствами, кончает
самоубийством или помешательством. А если уступишь, пойдёшь на компромисс -
потеряешь самого себя. И это не лучший вариант. Значит, нужно быть
последовательным и сильным. «Господи! Помоги моему неверию», — извечная молитва,
чтобы даровал Бог силы подняться над непосильной судьбой. Гегель говорил, что
религия — это предчувствие философии, а философия — осознание религии, обе ищут,
хотя и разными путями, Бога.
Поиски Бога — над жизнью, а в действительности Лина металась в поисках
заработка, разделяя судьбу матерей-одиночек. Вышла замуж, развелась, когда дочке
и года не было. Впрочем, по статистике, спустя двадцать лет после окончания
войны, одиноких материй было не меньше, чем в годы войны.
— Евреи хитрые, — говорит соседка по квартире, куда Лина переехала с дочкой
после развода с мужем, — не хотят работать. За столом сидеть и писать легко, а
ты попробуй, как я, побегай вокруг котла.
Соседка Галя Аниканова работает оператором в котельной. Работа сменная. Уходя в
ночную смену, особенно в первые дни, когда еще были мало знакомы, Галя долго
мешкала, подозрительно вглядывалась в Лину, ведь она оставалась с ее мужем.
Уйдет, через полчаса вернется, будто забыла что. Однажды даже ночью прибежала.
Тревога оказалась напрасной, все спали на своих местах. Успокоилась Аниканова
быстро, Лина не составляла конкуренции, потому как была «с приветом». Явилась с
дочкой в одной руке и детским горшком в другой. Долго отскребала ножом
самодельный, много раз крашенный кухонный стол, оставленный предыдущими
хозяевами, и спала на разбитом, тоже оставленном ими, диване. Ну кто позарится
на такую. В залог будущей дружбы Аниканова подарила ей своё старое пальто: «На,
носи, оно, конечно, местами потёртое, но твоё еще хуже».
У Аникановых были основания ощущать своё превосходство над новой жиличкой хотя
бы потому, что, по их представлениям, у неё ничего не было, у них же — все:
огромный, набитый продуктами холодильник, ковер во всю стену; сейчас копят
деньги на импортную мебель. Галя давно о ней мечтала. Еще был дачный участок.
Правда, пока строящаяся дача принадлежит свекрови, но наследник — сын
Аникановых, девятилетний Алеша. У сестры Галиного мужа детей не было, и Галя
надеялась, что не будет.
— Но иметь двоюродного брата или сестру для Алеши большее приобретение, чем быть
единственным наследником дачи, — говорила ей Лина.
— Ты ничего не понимаешь, — злилась Аниканова, она страшилась даже мысли, что у
Алеши могут быть конкуренты.
Муж Аникановой, или, как она его называла, «мой дурак», работал на складе
запчастей большого завода. Молчаливый, медлительный, и такой же огромный, как
жена, он вечерами сидел у телевизора, а когда передавали футбол или хоккей, его
невозможно было сдвинуть с места даже предложением сходить за ящиком пива.
— С ним скучно, — жаловалась Галя на мужа. — Нет, чтобы после обеда обнять,
поцеловать, так он, дурак, сразу отправляется на кухню посуду мыть. Но деньги в
дом носит. А ты как можешь так жить? — не раз спрашивала она Лину. — У тебя же
ничего нет, а я не могу так. Если увижу, кто в чем одет, а у меня нет, так
обидно станет, ну прямо не могу. Почему у других есть, а у меня нет? Пока не
куплю, не успокоюсь. Вообще-то ты странная, и на работу тебя не берут.
Как Гале объяснить, что устроиться на работу трудно. «Слишком много у тебя
недостатков», — сказал однажды Лине однокурсник, пытавшийся помочь с работой. Он
был прав: еврейка — раз, не член партии — два, женщина — три. Ни от одного из
этих недостатков не избавиться.
Печать своей национальной принадлежности Лина несла с начала жизни. В эвакуации
под Красноярском дети кричали: «Жиды! Жиды пархатые, Христа замучили». Дети
толкали, били, выщипывали из шубы мех. Тогда была главная забота — не показать,
что боишься. Если повалят — быстрей встать, ударят — дать сдачи, хоть и рискуешь
быть избитой и вывалянной в грязи. Дома не жаловалась, понимала - евреем быть
стыдно. И незачем рассказывать об этом бабушке и маме; им тоже станет стыдно.
Ведь они не виноваты – какие есть. Что такое «замучили Христа», Лина тогда не
знала; старалась, но не могла представить, вину всех евреев, и свою тоже.
Отречься от своей национальности; не раз советовали, — ну что стоит, всего лишь
поменять паспорт за десятку, - она не могла. И в партию не вступала. Очень уж
унизителен был расклад: вступишь — работу получишь. В противном случае — ничего.
Знала, на что шла. Впрочем, не выбирала, поступала, как могла. Вот и ходила с
протянутой рукой - просила работу.
Случилась удача. Взяли на несколько месяцев в НИИ культуры, в отдел социологии,
пока их младший научный сотрудник была в декретном отпуске. Нужно было срочно
писать отчет о проводившемся в течение нескольких лет социологическом
исследовании культуры села.
— Линочка, — бил себя в грудь заведующий отделом Балакин Сергей Владимирович, —
сколько себя помню, не видел, чтобы женщина так работала. Вы выносливы, как
лошадь, и как ловко всё у вас получается.
Лина старалась, она тем более старалась, что увидела в Сергее Владимировиче чуть
ли не мученика за правое дело. Уж он-то знает, как поднимать культуру села, вот
только директриса не даёт ему развернуться.
-Молочница, доярка, — ругал директрису Сергей Владимирович, — окончила Высшую
партийную школу, и пожалуйста, извольте на руководящую должность. Мы, Линочка,
покажем, кто тут чего стоит. Я стену прошибу, но добьюсь, чтобы отделу дали еще
одну ставку. Вы же понимаете, как я в вас заинтересован.
Директриса вовсе не собиралась потрафлять своему противнику. Вышла из декретного
отпуска сотрудница, и Лину уволили.
-Линочка, не расстраивайтесь, я этого дела так не оставлю, - заверял Балакин. —
Вы мне верите?
— Конечно, — кивнула Лина.
— Вот и прекрасно. А теперь, вперед! Сделайте по нашим анкетам анализ содержания
труда клубного работника на селе, и будьте уверены, все будет о'кей. Тогда уж
эта молочница не отвертится. Я пойду в министерство, вас возьмут в штат, а за
эту работу вы получите, помимо всего прочего, не менее пятисот рублей.
Очень нужны были деньги, и Лина два с половиной месяца с утра до поздней ночи
обсчитывала анкеты. Балакин снова обманул — не заплатил. Сказал, что директриса
не подписала счет.
«Вы не первая и не последняя, — сочувствовал Лине молодой сотрудник отдела
Костя. — В прошлом году наш зав уговорил аспирантов университета сделать за него
работу, тоже обещал уплатить и, конечно, обманул. Они, как и вы, сначала верили
каждому его слову, а дело кончилось тем, что подстерегли эти молодцы начальничка
в темном переулке и восстановили справедливость с глазу на глаз. Наш
импозантный, похожий на киноактера шеф, эдакий герой-любовник, смотрелся побитым
псом". — Костя торжествовал: ему, мальчику из многодетной семьи, все давалось с
трудом: всегда работал и учился, недоедал, ходил в обносках. Вот и сейчас рядом
с добротным ратиновым пальто Сергея Владимировича висит на вешалке в отделе его
заношенная до ветхости курточка.
Бедность — это страх, что завтра не будет даже того, что есть сегодня. Если в
доме оказывалось яблоко, Лина берегла его для дочки, для дочки была и кастрюлька
с куриным супом. Случалось, суп прокисал без холодильника, Лина кипятила его,
добавив щепотку соды, и вкус восстанавливался.
— А ты? — спрашивала Оленька. — Почему ты не ешь?
-- Я уже ела, пока ты была в саду, и вообще я сыта.
Кто-то из философов сказал, что нужно жить так, как будто ты живешь последний
день, и думать о вечности. Но если у тебя нет даже минимальных средств к
существованию, приходится суетиться.
Через несколько месяцев Лина снова пошла в тот же НИИ. Там произошли большие
перемены: ушла директриса, внешне вполне миловидная женщина с шестимесячной
завивкой и большим партийным стажем. О том, что ее уволят, говорили всегда.
Каждый год приходила комиссия для разбирательства огромного количества жалоб на
развал работы, но единовластная правительница, как ни в чем не бывало,
оставалась на месте. И вообще в институте ничего не менялось, кроме того, что
рябой, с тяжелой поступью пещерного человека личный шофер директрисы, поступил в
вечерний Плехановский институт и стал парторгом.
Последний раз комиссия из министерства пришла по поводу анонимки, — директриса
якобы покрывала свою подругу, много лет занимающуюся плагиатом. Подруга,
заведующая одного из отделов, научные тексты подчиненных выдавала за свои. При
этом не сомневалась: в ситуации выбора - она или слишком принципиальные
сотрудники, — администрация будет на ее стороне. Дело это замяли. Когда все уже
потеряли надежду и перестали ждать смену власти, директриса вдруг уволилась, —
ушла на повышение.
Сергей Владимирович Балакин ожил. «Вот видите!» — Многозначительно говорил он, и
получалось - чуть ли не он был причиной избавления. Опальный завотделом
повеселел, ходил по институту легкой танцующей походкой, громко разговаривал,
хлопал по плечу людей, с которыми вовсе не был запанибрата, и демонстративно
запросто входил в кабинет нового директора. Они вместе обедали в институтской
столовой, и Сергей Владимирович то и дело повторял присмиревшим коллегам: «Мы с
Евгением Викторовичем халтуры не потерпим». Однако Балакин вылетел из института
после первого же отчета; рассказывали, - директор так на него кричал, что было
слышно на всех трех этажах. Единственный человек, кто ему сочувствовал, —
восемнадцатилетняя секретарша с высокой грудью и чувственными губами. Но и та
быстро сменила свои привязанности; любимый бывшим начальником бразильский кофе,
который она носила ему в термосе, теперь пьет другой завотделом.
Не прошло и месяца, как Сергей Владимирович торжествовал победу: его взяли на
работу в Госплан, и недавно он выступал по телевизору, рассуждал о массовой
культуре.
Новый директор НИИ культуры оказался умным, деятельным человеком. Сухощавый,
внимательно вглядывающийся в собеседника, он энергично ходил по огромному,
устланному ковром кабинету со сводчатыми потолками — институт располагался в
старинном особняке — и, казалось, рвался в бой. За полгода своей работы он
уволил половину сотрудников за безынициативность.
Лина сидела перед Евгением Викторовичем и рассказывала о своих научных планах.
Тот кивал, соглашался, время от времени вскакивал и стремительно шагал от окна к
двери.
— Где же ваши документы? Анкета?
— Принесу, если возьмете на работу.
— С анкеты нужно начинать. Ну ладно, все, что вы говорили, замечательно, но это
ваш план работы на год. Институт разработал план на пятилетку. Возьмите его в
отделе перспективных исследований и, будьте любезны, впишитесь в него со своей
темой. Я хочу сказать, принесите мне план вашей работы на пять лет. Не
сомневаюсь в успехе. То, о чем вы сейчас говорили, нам подходит. Если бы все мои
сотрудники так творчески подходили к делу.
— Вы родственница директору? — спросила хорошенькая, с ямочкой на подбородке
девушка в отделе перспективных исследований, доставая из сейфа папку. — Нет?
Странно, — девушка застенчиво улыбнулась, — у нас даже не все сотрудники
ознакомлены с этой разработкой, а вам на дом дает, — она с любопытством
посмотрела на Лину, желая понять, чем та расположила свирепого самодержца.
Снова Лина сидела днями и ночами, писала индивидуальный план на пятилетку.
Писала подробно, развернуто, ведь директор сделал ее соучастницей своих
наполеоновских планов.
— Прекрасно! Сдаюсь! — Поднял руки Евгений Викторович, листая через три недели
Линины записи. - Сдаюсь на милость женщины! Вы совершенно правы, нужно
рассматривать человека не только как пассивного потребителя культуры, нужно
учитывать специфику индивидуального сознания. Вот этим и займётесь. Документы
принесли? Очень хорошо!
Раздался телефонный звонок.
— Слушаю вас! — нетерпеливо выкрикнул в трубку Евгений Викторович, и вдруг
неожиданно заговорил голосом очень зависимого человека. — Да, Константин
Гаврилович... Хорошо, Константин Гаврилович... Будет сделано, Константин
Гаврилович...
— Извините, меня вызывают в министерство, — проговорил директор, — приходите
завтра. — И тут же стал поспешно что-то искать на столе, в папках, ящиках стола.
Не находил, нервничал, снова выдвигал и со стуком задвигал ящики.
На следующий день секретарша в приемной директора вернула Лине документы.
— В чем дело?!
—Вас не берут, — смешалась высокая, кутающаяся в шерстяной шали седая женщина со
старинными серебряными браслетами на худых запястьях.
— Почему?
— Не знаю… не могу сказать.— Секретарша нервно заминала двумя пальцами окурок в
пепельнице.
— Я бы хотела видеть директора.
— Его нет.
— Я подожду, или приду попозже.
— Не приходите, его не будет.
— Что же все-таки случилось? Мы договорились…
— Дело в том, — женщина зябко передернула плечами, посмотрела на Лину и поспешно
отвела взгляд, — дело в том, что у вас, ну как бы это сказать, сложная анкета.
Его, — она указала кивком на дверь директорского кабинета, — недавно вызвали в
райком, обвинили, что уволил несколько членов партии, а взял беспартийных. Тем
более... вы же понимаете.
— Что понимаю?
— Вы же знаете… положение… пятый пункт.
Лина согласилась. За что истязать человека, пережившего, наверное, не одну смену
директоров, научившегося молчать, но не утратившего дар сопереживания.
Несколько ступенек крыльца... тротуар. А дальше? Куда идти дальше? Порывами
налетает ветер, выдувает из луж холодные брызги и загоняет в углы последние,
почерневшие от дождя листья. Темнеет. Пробежали школьники с ранцами и почему-то
стали оглядываться. Хорошо в Америке: там, говорят, на некоторых заведениях
надпись: «Вход только для белых».
Столько времени и сил потрачено зря. Пока писала этот план, хоть какие-то деньги
можно было заработать. Давно не плачено за квартиру, и башмаки не на что в
ремонт отнести. В кармане гривенник, а дома всего лишь пшено и немного картошки.
Вечером возьму у Аникановой трешку и вымою за неё полы в местах общего
пользования, сейчас её очередь.
Почему я, как последний раб, завишу от ситуации? А где же свобода воли? Но что
такое «свобода»? Блуждание по знакомым улицам, где всё: витрины магазина
«Подарки», ресторан «Минск» из серого бетона, газетный киоск — ассоциируется с
устоявшимся ощущением безнадежности. Безнадёжность, как удав, хватает за горло.
Лина медленно идет вдоль монументальных, облицованных гранитом зданий по улице
Горького. Кажется, вовсе не идет, а машинально передвигает ноги, на самом деле,
стоит на месте. Наверное, это ощущение неподвижности оттого, что некуда и
незачем спешить. Ничего не изменится, пойдет ли она вперед или назад, направо
или налево. Сворачивает на Патриаршие пруды. Там холодно и темно. Голые черные
деревья, как призраки, а посреди сквера — темное мертвое озеро. Вокруг ни души.
Завтрашний день будет такой же, как сегодняшний, и послезавтра ждать нечего.
Неоновые фонари на столбах выхватывают из темноты мокрую гальку, раскачивающуюся
на ветру ветку, чугунные переплетения низкой, у самой земли, ограды.
Призрачность бытия.
Из-за поворота аллеи вышел молодой папа, яростно тряся коляску. Там плакал
новорожденный. Только у новорожденных бывает такой надрывающий душу плач. Плач
вместе с криком. Лине почудилось, будто младенец услышал ее отчаяние и заплакал
громче — испугался.
— Ну, что ты? Что с тобой? — склонился над ним папа, — кто обидел нашего
маленького? — И столько тепла, покоя было в его голосе, что ребенок замолчал, и
Лине стало легче.
— В следующий раз, чтобы не терять времени, начну с анкетных данных, - решила
она.
— Жидов беспартийных берете? — Нарочито лихо открыв дверь, спросила Лина у
заведующего философским отделом энциклопедического издательства.
Заведующий отделом, судя по внешности; характерному извиву рта и большому
семитскому носу, был евреем. В первую секунду он растерялся, но уже в следующую
хохотал, упав в кресло: «Ну конечно, нет», — и жестом пригласил в кресло
напротив.
— Может быть, знаете, где берут?
— Не знаю, к сожалению.
— Нет - так нет, — Лина уже было вышла за дверь, но услышала вдогонку
извиняющийся голос:
— Подождите минуточку, присядьте, что ж так сразу уходите? Я вам чаю согрею.
Посидите.
— Не хочу чаю.
— Как бы вам объяснить, -- страдающий астматической одышкой человек пенсионного
возраста мучительно подбирал слова. — Я бы взял, конечно, у нас есть ставка, так
ведь скажут: Левин сам пристроился и своих берет. Я тоже долго слонялся без
работы, несколько лет сидел на содержании жены. Не знаю, где можно найти хоть
какой заработок, и посоветовать ничего не могу.
Шагая по улице, Лина думала, что стала жестким эгоцентриком, ей бы
посочувствовать этому рыхлому астматику, войти в его положение; даже когда он
улыбался, глаза были больные, затравленные. Он тоже раб. Поспешно соображая,
куда бы еще сегодня направиться в поисках работы, она задвинула этого Левина в
дальнюю память, откуда он, может быть, за ненадобностью и не выплывет никогда.
Свобода воли — миф. У человека нет выбора. Следующим местом, где Лина предложила
свои услуги, был научный центр художественной самодеятельности. Там она могла
очень даже сгодиться, ведь ее дипломная работа, где рассматривался процесс
мышления как на бессознательном — эмоциональном уровне, так и на уровне волевых,
осознанных моментов, имела непосредственное отношение к художественному
творчеству.
— Жидов берете? — спросила Лина у сидящего за тяжелым дубовым столом
респектабельного молодого человека.
— Разумеется, — ответил тот и густо покраснел.
Конечно, не взяли. Впрочем, Лина и не надеялась. «Стоит ли отчаиваться, -
уговаривала она себя по дороге домой. - В инквизицию жгли, в 37-м расстреливали,
а сейчас всего лишь не берут на работу». Продуманный профессиональный разговор
по поводу мотивов художественной самодеятельности не состоялся. Теперь было
ощущение расслабленности, бессилия — фонтан растекся лужей. Угнетало сознание
того, что живёт не своей жизнью. Сдалась ей эта художественная самодеятельность,
но не предлагать же себя в качестве исследователя становления нравственных идей
в мировых религиях. В институте атеизма прошла бы такая тема, естественно, в
плане критики. Но атеист не может заниматься религией, так же, как человек,
лишённый вкусовых ощущений, не может дегустировать вина. Никто из русских
философов за последние десятилетия не усомнился в материализме. Правда, был один
чудак на кафедре философии в университете, он входил в аудиторию, и перед тем,
как начать лекцию, долго молчал. Потом, в раздумье, словно беседуя наедине с
собой, говорил: «Не понимаю. Бога нет, а атеизм есть. Разве может существовать
наука о том, чего нет?»
Если человек создан по образу и подобию Бога, значит, мы стремимся стать
соучастниками Творения. Искусство, наука — способ осмысления жизни. Отсюда можно
вычленить и потребность в духовной культуре. Однако и эту тему не утвердили бы
ни в одном НИИ.
Домой возвращаться не хотелось, — дочка сразу поймет, что пришла ни с чем, и
скажет: «Ну вот, все люди как люди, а у тебя всегда хуже всех». Направилась в
своё всегдашнее пристанище — Ленинскую библиотеку. Попыталась сосредоточиться
над книгами, — не получилось. Трудно читать, писать, когда не знаешь, что тебя
ждет завтра, да и не нужна никому твоя писанина. Лина листает журнал «Крокодил»,
но на этот раз и юмор не спасает. Встретить бы сейчас кого-нибудь, пожаловаться,
— и она слоняется по залам библиотеки — ищет знакомых. Как нарочно — никого.
Лина идет по улице Горького. На центральных улицах вечером особенно остро
чувствуешь одиночество. Быстро редеет толпа. У памятника Пушкину бродит
согбенная тень, должно быть, поэт, а может, графоман ищет соучастия
непревзойденного классика. Как громко стучат каблуки по промерзшему асфальту.
Старается ступать мягче, и снова слышит неприятно резкий звук своих шагов.
Сворачивает к дому в Благовещенский переулок.
На открытках с видами старой Москвы при входе в этот переулок стояла церковь
Благовещенья, ее снесли. Сейчас здесь павильон для летней продажи овощей.
Поздней осенью и зимой павильон заколочен — торговать нечем. Лина поднимает
голову, чтобы увидеть небо. Неба нет. Есть узкий черный провал между близко
сдвинутыми высокими зданиями. «В нашем окне свет — дочка не спит. Приду попозже
и сразу лягу в постель, чтобы ни о чём не разговаривать. Заползти бы сейчас в
какую-нибудь щель, спрятаться».
Если по Благовещенскому переулку идти вниз к Садовому кольцу мимо Патриарших
прудов, не разминешься с Уругвайским посольством. Лина вглядывается в
милицейскую будку при посольстве. «Дремлет, небось», - думает она о милиционере.
Будка пуста. Высокий угрюмый старшина появился, как из-под земли вырос. Они
встретились глазами — два потерявшихся в ночи человека. Так, наверное, радуется
уцелевший на поле боя солдат даже вражескому оставшемуся в живых солдату.
«Кто-нибудь растолковал бы дочке: невозможность устроиться на работу не вина, а
беда, - тоскует Лина. - Взять на себя такой труд можно из любви ко мне. Но если
кто и любил меня, так это бабушка. Своей безграничной заботой она приподняла над
бытом, дала свободное время, которого у неё никогда не было. Бабушка все ждала
чего-то, не для себя ждала, надеялась, хоть мне будет хорошо».
Неприкаянная безработная дошла до торжественной в строгой красоте старинных
особняков улицы Алексея Толстого, и снова вернулась на Патриаршие пруды.
Завернулась поплотней в пальто, сжалась, и замерла на скамейке. Она ни к чему не
была причастной. Ни к подъехавшей к подъезду дома напротив похоронной машине,
откуда медленно, тяжело сходили старые женщины в чёрных платках, ни к
доносившимся из окон соседнего подъезда крикам «Горько!». Свадьба и поминки.
Рождение и смерть. Смерть и рождение.
Если сидеть, не двигаясь - теплей. Так же, боясь растерять тепло, сидела она
ребёнком в холодной кухне во время эвакуации. Бабушка рассказывала о Боге,
накормившем свой народ манной небесной. Тогда же Лина поверила, что Бог к ней
особенно благоволит, будто она свидетель Его воли или Он свидетель ее жизни.
К
ПРОДОЛЖЕНИЮ
1>>>
|