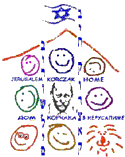|
Трамвая мне пришлось ждать долго, и я злюсь, потому что хотел
мигом обернуться: вот, мол, как быстро все исполнил. А там, видно, случилось
что-то такое на линии, отчего трамваи остановились, потому что, когда трамвай
подошел, он был уже полный. Но все равно в него все лезут. И я лезу. Я уже даже
за поручни держался, а тут какой-то тип как толкнет меня — я еле на ногах
устоял. Я так обозлился, что даже обругал его про себя. А он влез на подножку и
говорит:
— Куда лезешь? Слетишь!
«Ишь какой добрый нашелся,— думаю.— Сам слетишь, пьяный болван!»
Он вовсе н не пьяный был, это я только так, со злости. Ведь он меня не спьяну
столкнул, а потому что он сильнее меня.
Я дождался другого трамвая, и тот битком набит. Я заплатил и еду. А сам все
думаю о том, как он меня грубо столкнул. Такой грубиян, хам, и еще взрослый,—
детям пример подает!
А тут опять один какой-то толкается. Отстранил меня, словно я вещь, а не
человек; я чуть платье не выронил. И что такого ему сказал? Каждый бы так
сказал, как я:
— Осторожнее...
А он как напустится на меня:
— Я тебе дам — осторожнее! Я только повторил:
— Осторожнее...
А он меня за ворот схватил.
Я говорю:
— Пустите! А он:
— А ты не ругайся!..
Я говорю:
— А я и не ругаюсь. А тут какой-то старик вмешивается. Ничего не видел, ничего
не знает,
а туда же:
— Такое теперь воспитание! Мальчишка старшему места не уступит! Я сказал:
— Он и не просил меня уступить.
А тот, который толкался, опять за свое:
— Я тебе поговорю, щенок!
— Я не щенок, а человек, и вы не имеете права толкаться.
— Еще учить меня будешь, имею я право или не имею!
— Потому что не имеете!
Сердце у меня колотится, и в горле перехдатило. Пусть хоть до скандала дойдет.
Не поддамся! А тут уже все оборачиваться отели. Удивля-ются, что маленький, а
так огрызается. — А вот если я тебе сейчас по уху дам, тогда что?
— Позову полицейского и велю вас арестовать за то, что вы драку в трамвае
затеваете.
Тут все как начнут смеягься. И он тоже. Никто уже и не сердится, только хохочут,
словно я что-то смешное сказал. Даже с места привстают, чтобы на меня
посмотреть.
Я чувствую, что не выдержу, и говорю:
— Пропустите меня, я выхожу! А он не пускает.
— Ты только что сел,— говорит.— Прокатись маленько.
А тут -еще тетка одна толстая такая сидит, развалилась и говорит:
— Ну и разбойник!
Я уже не слышу, как каждый изощряется.
— Пустите, я хочу сойти!
А он все не пускает.
Тогда я как закричу изо всех сил:
— Господин кондуктор! Тут один какой-то вступился:
— Да ладно, пустите его.
Я сошел, а все на меня смотрят, как на диковинку какую. Наверное, потом еще
полчаса потешались.
Иду я с этим платьем под мышкой, и взрослые мысли мешаются у меня с детской
обидой и болью.
Я проехал только четыре остановки, до тетки еще далеко, но лучше бегом бежать,
чем с ними лаяться.
А дома мама опять:
— Ты что так долго сидел?
Я ничего не ответил. Потому что мне вдруг показалось, что во всем виновата мама.
Если бы я не вышел из дома раздраженный, то, может быть, не устроил бы в трамвае
скандала. Столько раз уступаешь, ну, уступил бы еще раз. А пословица, словно в
насмешку, говорит, что «умный уступит, дурак никогда». Ищи теперь умного.
Жалко мне, что день так славно начался и так никудышне кончился.
Я уже лежу, а заснуть не могу и думаю дальше.
Уж так, видно, и должно быть. Дома — не очень хорошо, а не дома — еще хуже.
Значит, это им так смешно? Значит, раз я маленький, то мне нельзя позвать
полицейского, а вот спихивать меня с тра-мвая, брать за шиворот и грозить —
можно.
В конце концов, дети люди или не люди? И я уже даже ве знаю, радоваться ли, что
я ребенок, радоваться ли, что снег опять белый, или грустить, что я такой
слабый?..
Пятнашка
Я проснулся грустный.
Когда тебе грустно, это не так уж плохо. Грусть — такое мягкое, приятное
чувство. В голову приходит равные добрые мысли. И всех становится жалко: и маму,
потому что моль ей платье испортила, и папу, потому что он так много работает, и
бабушку — веда она старенькая и скоро умрет, и собаку, потому что ей холодно, и
цветок, у которого по-никли листья,— наверное, болеет. Хочется каждому помочь и
самому стать лучше.
Ведь мы и грустные сказки любим. Значит, грусть нужна.
И тогда хочется побыть одному или поговорить с кем-нибудь по душам.
И боишься, как бы твою грусть не спугнули.
Я подошел к окну, а на стеклах за ночь появились красивые цветы. Нет, не цветы,
а листья. Словно пальмовые ветки. Странные листья, странный мир. Отчего так
сделалось, откуда это взялось?
— Почему ты не одеваешься? — спрашивает отец.
Я ничего не ответил, а только подошел к отцу н говорю: — Доброе утро.
И поцеловал ему руку, а он на меня так внимательно посмотрел.
Теперь я быстро одеваюсь. Поел. Иду в школу.
Я выхожу за ворота и смотрю, не идет ли Манек. Нет, не идет.
Все лужи замерзли. Ребята раскатывают ледяные дорожки. Сначала маленький кусочек
получается, потом все больше и больше,— вот и кататься можно. Я было
остановился. Да нет. Иду дальше.
И вместо Манека встречаю Висьневского.
— Эй, Триптих, как живешь?
Я сперва даже не понял, что ему надо. Только потом уже сообразил: ведь это он
мне прозвище дает, потому что я тогда триптих нарисовал. Я говорю: — Отстань.
А он вытянулся по стойке смирно, отдал честь и говорит:
— Есть отстать!
Вижу, задирает, перехожу на другую сторону. Все же он мне раз наподдал. Тогда я
взял да и свернул за угол.
«Время есть,— думаю,— обойду кругом. Ничего, не опоздаю». Опять свернул на
другую улицу. Словно меня кто туда позвал, словно
Подтолкнуло что-то. Бывает, сделаешь что-нибудь, а почему — сам не знаешь. И
потом иногда хорошо, а иногда и плохо выходит. Когда выйдет плохо, говорят:
«Нечистый попутал!» Даже сам удивляешься: «И зачем
я так сделал?»
И вот, я сам не знаю как, делаю все больший и больший круг, совсем но другой
дороге. Иду я, и вдруг на снегу песик.
Такой маленький, испуганный. Стоит на трех лапках, а четвертую поджимает. И
дрожит, весь трясется. А улица пустая. Только изредка кто-нибудь пройдет.
Я стою, смотрю на него и думаю: «Наверное, его выгнали, и он не знает, куда
идти». Белый, только одно ухо черное и кончик хвоста черный. И лапка висит, и
смотрит на меня жалобно, словно просит, чтобы я ему помог. Даже хвостик поднял,
вильнул — печально так, два раза, туда и сюда, будто в нем пробудилась надежда.
И заковылял ко мне. Видно, больно ему. И опять остановился, ждет. Черное ухо
поднял кверху, а белое — опущено. И совсем, ну совсем словно просит помочь,
только ещё боится. Облизнулся — наверное, голодный — и смотрит умоляюще.
Я сделал на пробу несколько шагов, а он — за мной. Так на трех лан-ках и
ковыляет, а как обернусь — останавливается. Мне пришло было в голову топнуть
ногой и закричать: «Пшел домой!», чтобы посмотреть, куда он пойдет. Но мне его
жалко, и я не крикнул, а только сказал:
— Иди домой, замерзнешь...
А он прямо ко мне.
Что тут делать? Не оставлять же его — замерзнет.
А он подошел, совсем близко, припал брюхом к земле и дрожит. И тут я понял, да,
окончательно понял, что мои Пятнашка без-дом-ный. Может быть, уже целую ночь
бродит. Может, это уже его последний час настал. А тут я, как нарочно, иду в
школу совсем другой дорогой и могу его спасти в этот последний час.
Взял я его на руки, а он меня лизнул. Дрожит, холодный весь, только язычок чуть
теплый. Расстегиваю пальто, сунул его под пальто, только мордочку на виду
оставил, только нос, чтобы дышал. А он перебирао лапками, пока, наконец, обо
что-то там не зацепился. Хочу его поддержать, да боюсь, как бы лапу не
повредить. Обхватил его осторожно р;>-кой, а у него сердце так бьется, словно
выскочить хочет.
Если бы я знал, что мама позволит, то еще успел бы домой сбегать. Ну кому бы это
помешало, если бы он остался у меня жить? Я бы сам его кормил, от своего обеда
оставлял бы! Но возвращаться домой боюсь, а в школу меня с ним не пустят. А он
уже устроился под пальто поудобнее, не шевелится и даже глазки зажмурил. Потом
слышу, он уже немножко повыше, к рукаву подлез, даже свежим воздухом дышать не
хочет, засунул мордочку в рукав и туда дует. И уже теплее стал. Наверное, сейчас
уснет. Потому что если он всю ночь пробыл на морозе и не спал, то теперь уж
наверное уснет. Что мне тогда с ним делать? Гляжу по сторонам, вижу: рядом
лавка.
«Будь что будет. Войду, Может, он из этой лавки?»
Знаю, что это не так, но все равно попробую, что же еще делать?
Вхожу и спрашиваю:
— Это не ваш песик? А лавочница говорит:
— Нет.
Но я не ухожу. Если бы у меня были деньги, я бы ему купил молока.
А лавочница говорит:
— Покажи-ка его.
Я обрадовался, вытаскиваю песика, а он уже спит.
— Вот он,— говорю.
А она словно передумала:
— Нет, не мой.
— Может, вы знаете, чей? Он ведь, наверное, откуда-нибудь отсюда...
— Не знаю. Тогда я говорю:
— Замерз он.
Держу его на руках, а он даже не пошевельнется,— так крепко спит. Можно
подумать, что умер, только слышу, дышит — спит.
Я стесняюсь попросить лавочницу, чтобы она его хоть на время взяла. Потом бы я
его забрал. И тут мне приходит в голову, что если не она, так, может быть,
школьный сторож подержит его у себя во время уроков. Потому что на втором этаже
сторож злой, а на третьем — добрый: разговаривает, шутит с нами и карандаши
чинит.
А лавочница говорит:
— Ты разве на этой улице живешь?
Она, мол, меня не знает и покупать я не покупаю, так чего же я туг стою?
— Ну, иди, иди,— говорит,— тебя мать в школу послала, а ты с собакой
забавляешься! И дверь хорошенько закрой.
Она, видно, подумала, что раз я такой озабоченный, то уж, конечно, забуду
закрыть дверь и напущу холода. Потому что каждый только о том и думает, чтобы
ему самому тепло было. А ведь собака тоже живое существо.
Я совсем уже было собрался уходить, но решил еще раз попробовать:
— Вы только посмотрите, какой беленький, совсем не паршивый. И прикрываю песика
рукой, потому что лапка-то хромая. А может быть, отморожена? А она говорит:
— Да отвяжись ты от меня со своим псом!
Вот тебе и на, словно я к ней привязываюсь. Разве я виноват, что собака на
морозе мерзнет?
Ну, ничего не поделаешь. Если и сторож не согласится, то пусть сам его и
выбрасывает.
Ребята сразу разорутся на всю школу: «Собаку принес! Собаку принес!» Еще
кто-нибудь из учителей услышит. А надо, чтобы никто не узнал, А я уже столько
времени зря потерял. Запихиваю песика не под пальто, :а прямо под куртку, не
подумал даже, что ему там душно будет, и бегом в школу. Сторож, наверное,
согласится. Займу у кого-нибудь денег н дам на молоко для моего Пятнашки.
Я его Пятнашкой назвал.
Бегу, а он уже совсем отогрелся. Это я его согрел, через рубашку. Теперь он
проснулся и начинает возиться, вертится, даже носик выставил и залаял — не
залаял, а тявкнул,— знак такой подал, что ему хорошо: благодарю, мол. Сначала от
него ко мне холод шел, а теперь уж он меня греет. Словно ребенка держу. Я
нагнулся и поцеловал его, а он зажмурился.
Пришел я в школу и сразу к сторожу: — Спрячьте его, пожалуйста! Он был такой
холодный! — Кто холодный? — Да он.
Сторож увидал, что я держу собаку, и нахмурился. — Откуда ты ее взял? — На улице
подобрал. — А к чему было чужую собаку брать? — Бездомная она. И лапка сломана.
— Куда ж я ее теперь спрячу? Не надо было уносить, может, у нее хозяин есть?
— Никого у нее нет,— говорю я.— Я всех спрашивал; если бы кто был, то в мороз бы
из дома не выгнали.
— Может, паршивый какой...
— Ну, что вы! Посмотрите, какой он чистенький!
Я сделал вид, что обиделся, а сам рад, потому что если возьмет посмотреть, то
уже оставит.
Но тут я услышал, что кто-то идет, и сунул щенка под куртку. А сторож тому
говорит:
— Отойди. Смотри, у тебя все башмаки в снегу.
И отогнал.
Но все еще не берет. Говорит:
— Вас тут вон сколько, что, если каждый начнет мне собак с улицы таскать?
— Ну пожалуйста, только на несколько часов. Я его потом сразу домой заберу...
— Как же, так тебе и позволят! Я говорю:
— Пойду-ка я на ту улицу, может, кто его признает. Сторож почесал в затылке, а я
думаю: «Кажется, дело на лад идет».
Он еще поворчал немного.
— Мало тут у меня с вами хлопот,— говорит,— еще с собаками возись.
Но взял. Человечный. Тот, со второго этажа, ни за что бы не взял, да еще и
обругал бы.
Взял. А мальчишки уже на нас поглядывать начади. Мой Пятнашка словно понял,
молчит, не шевелится, только смотрит на меня. А тут звонок звенит. И Пятнашку я
пристроить успел, и на урок не опоздал.
Начался урок.
Я сижу на уроке, но мне очень грустно. Потому что, хотя Пятнашке и тепло, но,
наверное, он голодный.
Сижу и думаю, где бы денег достать Пятнашке на молоко.
Сижу и думаю, что вот я всю ночь спал в теплой постели и не знал, что псинка на
морозе ночует, а хотя бы и знал, все равно ничего не мог бы сделать. Ведь не
встал бы я и не пошел бы ночью по улицам искать Пятнашку.
Я сижу на уроке, но мне грустно, так грустно, что этой грусти на весь класс бы
хватило. Никогда уж я больше не буду носиться по двору с мальчишками. Вот вчера
мы играли в охоту, в лошадки. Какие детские игры! Никому от них никакой пользы.
Если бы мне позволили взять моего песика домой, я хоть о нем бы заботился.
Выкупал бы его, вычесал, стал бы песик беленький как снег. Захотел бы — научил
бы его разным штукам. Терпеливо учил бы, не бил. Даже не кричал бы на него.
Потому что часто от слова бывает так же больно, как от удара.
Если любишь учителя, то от всякого замечания больно. Он только скажет: «Не
вертись!», или: «Не разговаривай!», «Ты невнимателен!», а тебе уже неприятно.
Уже думаешь, сказал ли он это просто так и сразу забудет или и вправду
рассердился.
Мой Пятнашка будет меня любить, а когда у него что-нибудь не выйдет, я скажу
ему, что это у него получилось плохо, к тут же его поглажу, а он завиляет
хвостиком и станет еще больше стараться.
Я не буду его дразнить, даже в шутку, чтобы он не озлобился. Странно, отчего это
многим нравится дразнить собаку, чтобы она лаяла. Бот и я вчера кошку напугал.
Вспомнил я об этом и стало стыдно. И зачем это я? У нее, поди, чуть сердце от
страха не выскочило. А кошки и на самом деле неискренние, или это только так
считается? Тут учительница говорит:
— Читай дальше ты. То есть я.
А я даже не знаю, что читать, потому что и книжку не раскрыл. Стою как дурак.
Глаза вытаращил. И жалко мне и Пятнашку, и себя самого.
А Висьневский объявляет:
— Триптих ворон считал.
У меня даже слезы на глаза навернулись. Я опустил голову, чтобы кто-нибудь не
увидел.
Учительница не рассердилась, только сказала:
— Книжку даже не раскрыл. Вот поставлю тебя за дверь... Она сказала «поставлю за
дверь», а не «выгоню». И не выгнала.
— Встань и стой,— говорит.
Даже не в углу, а на своем месте, за партой.
Видно, учительница догадалась, что со мной что-то стряслось.
Если бы я был учительницей, а ученик сидел бы с закрытой книжкой, то я спросил
бы, что с ним, нет ли у него какой-нибудь неприятности.
А что, если бы учительница и вкравду спросила, почему я сегодня такой
невнимательный? Что бы я ответил? Не могу же я выдать сторожа!
Но учительница сказала только:
— Встань и стой. А потом еще говорит:
— Может быть, тебе лучше выйти из класса?
Я стою весь красный и ничего не отвечаю. А они сразу крик подняли.
Один кричит:
— Ему лучше выйти!.. А другие:
— Нет, ему тут лучше, госпожа учительница!
Что ни случись, из всего сделают забаву: рады, что урок прервался. И не подумают
о том, как человеку неприятно: ведь учительница, того и гляди, опять
рассердится.
Наконец-то звонок. Урок кончался. Я бегу к сторожу.
Но тут меня останавливает сторож с нашего этажа, тот самый, злой.
— Куда? Не знаешь разве, что нельзя?
Я струсил, но все о своем думаю:
«У кого бы попросить десять грошей на молоко».
Может, у Бончкевича? У него всегда есть деньги. Нет, он не даст, он меня мало
знает. И, когда у него один раз кто-то попросил в долг, он сказал:
— Вот еще, в долг тебе давать, голодранец несчастный!
«У кого же взять денег? У этого? А может, вон у того?» Я смотрю по сторонам. И
вдруг вспоминаю, что ведь Франковский должен мне пять грошей. Разыскал его, а он
играет с мальчишками н от меня убегает.
— Послушай, верни мне пять грошей. — Отстань,— говорит он,— мешаешь!
— Да они мне нужны.
— Потом, сейчас не могу!
— Да мне сейчас нужно!
— Говорю тебе, потом! Нет у меня.
Я вижу, что он начинает злиться, ну и денег у нею нет, значит, ничего тут не
поделааешь. У Манека тоже нет.
Делать нечего, иду к Бончкевичу. У его отца магазин, он богатый. Бончкевич
скрашивает:
— На что тебе? Я говорю.
— Нужно.
— А когда отдашь?
— Когда а будут.
Что же я могу сказать? Другой пообещает: «.Завтра», а сам и в ус дует. Еще
выругает; если напомнят. Скажет: «Отвяжись!»
— Ну что, дашь мне в долг?
— А если у меня нет?
— Есть, только дать не хочешь.
Если бы я сказал, на что мне нужны деньги, он, наверное, дал бы. А может,
скаазать? А он говорит:
— Я уже столько пораздавал, и никто не возвращает. Иди к Франеку он уже целыми
месяц мне двадцать пять грошей должен.
А Франек никому не отдает. Я поморщился, по делать нечего.
Ищу Франека, а его нет нигде. Как тут найдешь, в такой сутолоке?
А Бончккевич даже добрый, не любит отказывать. Только любопытный, все ему надо
знать. Сам уже теперь со мной заговаривает:
— Что дал?
— Да я не знаю, где он.
Бончкевикч подумал немножко и опять спрашивает:
— Скажи, на что тебе?
— Тогда дашь?
— Дам! .
— А естгь у тебя?
— Есть, только я хочу купить картон, рамку сделать.
Я ему все рассказал. Крадемся мы на третий этаж, а тут звонок. Надо идти в
классе.
Я очень беспокоюсь. Пятнашка голодный, может, начнет скулить, визжать, а сторож
возьмет да и выкинет его.
Я его Пятнашкой назвал. А теперь думаю, что, может, это нехорошо. Похоже на
прозвище. Собака, правда, не понимает. Человеку это было бы обидно. Может,
назвать Снежком, ведь я его на снегу нашел? Или Бе-лыш, Белышка. Или как-нибудь
от слова «зима».
Я уже о нем так думаю, словно знаю, что мне его позволят взять-.
Женщина в лавке и сторож говорили, что у него, наверное, есть хозяин. Может
быть, расспросить ребят около тех ворот? Но там даже и ворот-то никаких близко
не было. И вдруг кто-нибудь скажет, что щенок его, а это будет неправда:
поиграет с ним и опять на мороз выбросит. Да хотя бы и правда, все равно хозяин
о нем не заботится, раз вы-
гнал. А может быть, он сам убежал? Ведь я не знаю, какой у него характер. А
молодые щенки озорные. Может быть, нашкодил, испугался нака-
зания и сбежал.
Ну просто не знаю, что делать! Такой озабоченный сижу, словно у меня маленький
ребенок. А Снежок, наверное, думает, что я о нем забыл. Собака и правда похожа
на ребенка. Ребенок плачет—собака скулит. И лает, когда сердится или когда
чему-нибудь рада. И играет она, как ре-бенок. И смотрит в глаза; и
благодарит—лижет и рычит, словно гово-рит, предостерегая: «Перестань».
Но тут я вспомнил, что сейчас урок и надо быть внимательным,— и так я уже стоял
за партой.
Эх, Белыш, Белыш! Мал ты и слаб, поэтому тебя ни во что не ставят, с тобой не
считаются, тебя не ценят. Ты не собака-водолаз, которая спа-сает утопающих, по
сенбернар, который откапывает замерзших пгутеше-ственников из-под снега. Не
годишься ты и в упряжку эскимоса, ты даже не умный пудель, как пес моего дяди.
Обязательно пойду со своим песиком к дяде, пускай подружится с пуделем. Собаки
тоже любят общества. Вот я думаю: «Пойду-ка я с ним к дяде». Но ведь все это
только мечты. Потому что, наверное, мне не позволят его оставить. Взрослый
скажет ребенку: «Нельзя»! — и тут же забудет. И даже не узнает, какую он
причинил ему боль.
Когда я хотел стать ребенком, я думал только об играх и о том, что детям всегда
весело—ведь у них нет никаких забот. А теперь у меня больше забот с одним щенком
на трех лапах, чем у иного взрослого с це-лой семьей.
Наконец я дождался звонка.
И вот мы даем сторожу десять грошей на молоко. А сн говорит: — На что мне ваши
гроши! Поглядите лучше, что он тут наделал. И отпирает темную каморку, где
скулит Пятнашка. — Ничего,— говорю я.— Можно эту тряпочку, я вытру?.
И я вытер и даже не побрезговал.
— А Белыш меня узнал, обрадовался. Чуть было в коридор не выскочил. Прыгает
вокруг меня. Совсем забыл обо всех опасностях и бедах. А ведь он мог бы теперь
лежать мертвый на холодном снегу. — Ну, выметайтесь! — говорит сторож, но тут же
поправился: — Идите, у меня времени нет.
Взрослому никто не скажет: «Выметайтесь», а ребенку часто так гово-рят. Взрослый
хлопочет — ребенок вертится, взрослый шутит — ребенок паясничает, взрослый
подвижен — ребенок сорвиголова, взрослый печа-лен — ребенок куксится, взрослый
рассеян — ребенок ворона, растяпа. Взрослый делает что-нибудь медленно, а
ребенок копается. Как будто и в шутку все это говорится, но все равно обидно.
«Пузырь», «карапуз», «малявка», «разбойник» — так называют нас взрослые, даже
когда они не сердятся, когда хотят быть добрыми. Ничего не поделаешь, да мы и
привыкли. И все же такое пренебрежение обидно.
Бедный Белыш — а может быть, лучше Снежок? — снова должен си-деть два часа
взаперти, во тьме кромешной.
— А может, спрятать его за пазуху, и он будет сидеть на уроке спокойно?
— Дурак,— сказал сторож и запер дверь на ключ. А Манек встречает меня в коридоре
и говорит:
— Что у тебя там за секреты?
Я вижу, что он обижен, и все ему рассказал.
— Так ты... так ты ему первому сказал?
— Но ведь я ему должен был сказать, а то он ае дал бы денег на молоко.
— Да уж знаю... знаю...
Жалко мне Манека, потому что и мне ведь было бы неприятно, если бы он другому
рассказал что-нибудь раньше, чем мне. И на большой перемене я его спрашиваю:
— Хочешь пойдем посмотрим?
А тут на третьем этаже мальчишки курили, и идет следствие, кто курил, кто ходил
на третий этаж — не «ходил», а «лазил». Наш сторож говорит:
— Все время гоню их, а они все как-то прокрадываются.
И смотрит на нас. Я спрятался за Томчака. А то бы сразу узнали, потому что я
покраснел. Меня даже в жар бросило. А взрослые думают, что, если ребенок
заикается и краснеет, значит, он врет или в чем-нибудь виноват. Но ведь мы часто
краснеем просто оттого, что нас подозревают, со стыда или от страха, или потому,
что сердце сильно бьется... И еще у некоторых взрослых есть обыкновение
заставлять смотреть в глаза. И иной мальчишка, хоть и виноват, но смотрит прямо
в глаза и врет как по писаному.
Кончилась вся эта история тем, что, кто курил папиросы на третьем этаже, не
выяснили, а мы нашего песика так и не повидали.
После занятий сторож говорит:
— Ну, забирайте своего пса, и в другой раз мне сюда собак не водить, некогда
мне! А не то отправлю вас в учительскую вместе с собакой.
Мы вышли: я, Манек и Бончкевич. И Пятнашка — пусть его остается Пятнашкой!
И как же он обрадовался, когда его выпустили на свободу. Как все живое тянется к
свободе! И человек, и голубь, и собака.
Советуемся втроем, что делать дальше. Бончкевич согласился взять его до завтра,
а я тем временем дома разрешение выпрошу.
Но, когда Бончкевич взял у меня Пятнашку, я на него вроде как бы обиделся.
Ведь Пятнашка мой. Ведь это я грел его под пальто. Он меня первого лизнул. Я его
нашел и принес в школу и все время о нем думал. А Бончкевич только дал десять
грошей, и все.
Ну, разве это справедливо, что одним родители все позволяют, а другим нет?
Каждый больше всего своих родителей и свой дом любит. Но ведь обидно, когда
знаешь, что другому отец позволяет то, что запрещают тебе.
Почему Бончкевич берет себе Пятнашку, и асе тут, а я должен еще разрешения
спрашивать, и, наверное, ничего из этого не выйдет.
Когда знаешь, что у родителей нет денег, их еще больше любишь, потому что
становится их жалко. Кто станет сердиться на отца за то, что у него нет работы,
или за то, что он мало зарабатывает? Другое дело,
если он тратит деньги на ненужные вещи, а на ребенка скупится, думает только о
себе, а ребенку жалеет. Вот отец Манека,— почему он тратит деньги на водку да
еще скандалы устраивает?
Мне жаль Манека и жаль отдавать белого Пятнашку. Столько пришлось из-за него
вытерпеть, а теперь он достается другому.
— Можешь мне эти десять грошей не отдавать,— говорит Бончкевич.
Я рассердился.
— Обойдусь без твоих одолжений! Я еще, может, завтра тебе отдам.
— Раз ты так злишься, не отдавай!
— Поди сюда, собачонка, попрощаемся,— говорю я.
А Пятнашка вырывается, не понимает, что мы расстаемся. Потом уперся мне лапками
в грудь и хвостиком весело виляет, и смотрит прямо в глаза.
У меня даже слезы на глаза навернулись.
А он лизнул меня в губы — прощения просит.
И я прижал его к себе в последний раз.
Наконец Манек потянул меня за карман:
— Ладно уж, иди!
Мы пошли. Я даже не оглянулся.
Манек всю дорогу говорил о голубях, кроликах, сороках, ежах. Мне почти что и
слова вставить не дал. И дорога домой прошла незаметно. На часах время как будто
всегда движется одинаково, но в человеке словно есть какие-то другие часы, и
время на них то летит незаметно, то тя-нется так, что, кажется, и конца этому не
будет. Иной раз не успеешь прийти в школу, как уже звонок, и пора домой. А иной
раз ждешь-ждешь, пока вся эта канитель кончится, и выходишь из школы, как из
тюрьмы, даже радоваться нет сил.
Прощаюсь я с Манеком, и, словно меня кто за язык дернул, спрашиваю:
— Что, твой старик опять вчера нахлестался? Манек покраснел и говорит:
— Ты думаешь, мой отец каждый день пьет?
И отошел, так что я уже ничего больше не успел сказать. Ну, зачем это я? Вот так
скажешь что-нибудь, не подумав, а потом уже не поправить.
«Слово — не воробей, вылетит, не поймаешь».
Очень мудрая пословица. Я ее от отца узнал, только тогда она мне не понравилась.
Потому что я сказал правду, а все как закричат на меня, будто это невесть какая
ложь. Никто, мол, тебя не спрашивал, и нечего было говорить. Но ведь утаить
правду — это все равно, что солгать!
Много в жизни всякой фальши. Когда я был взрослым, я к этому привык, и меня уже
это не волновало. Фальш, так фальш — ничего не поделаешь, а жить надо. Теперь я
думаю иначе; мне снова больно, если человек не говорит человеку того, что думает
на самом деле, а притворяется.
Потому что ложь еще может быть так — ни плохая, ни хорошая. А вот лицемерный
человек — это уж, пожалуй, хуже всего. Думает одно, а го-
ворит другое, в глаза так, а за глаза эдак. Уж по мне лучше хвастун, врун, чем
лицемер. Лицемера труднее всего распознать. Вруну скажешь: «Врешь!» или: «Не
хвастай!» И дело с концом.
А лицемер кажется таким хорошим и милым, его трудно вывести на чистую воду.
Ну, чего я добился? Причинил Манеку неприятность. Обидел его.
Вхожу в ворота, а на ступеньке сидит та самая кошка, которую я вчера напугал.
Мне стало ее жалко, и я хотел ее погладить, а она наутек. Помнит. А что, если
бог меня за эту кошку накажет и Пятнашку не позволят взять домой?
— Ну что у тебя сегодня было в школе? — спрашивает мама. Ласково так спросила.
Может быть, чувствует, что несправедливо вчера на меня накричала? Я говорю:
— Да ничего такого. Мама спрашивает:
— А в углу не стоял?
И тут только я вспомнил, что стоял за партой.
II говорю:
— За партой стоял.
— А говоришь, ничего не было!
— Я просто забыл.
Беру нож и начинаю вместе с мамой чистить картошку. Мама спрашивает:
— За что? Я говорю:
— Я не слушал.
— Почему же ты не слушал?
— Да так, задумался.
— О чем же?
Я чищу картошку, словно очень занят, и не отвечаю.
— Это нехорошо, что ты забыл. Хорошему мальчику стыдно стоять за партой, и он
постарался бы больше так не делать. Ведь учительница тебя наказывает для науки,
чтобы ты свою вину лучше понял. А раз ш забыл — значит, и наказание тебе впрок
не пойдет. Надо помнить, за что тебя наказывают.
Я смотрю на маму и думаю:
«Бедная, добрая мама, ничего-то она не понимает».
А потом еще подумал:
«Бедная и старая».
Потому что, когда мама нагнулась, я заметил у нее седые волосы и морщинки. Может
быть, она еще и не старая, да жизнь у нее тяжелая.
«Хорошо,— думаю я,— что у меня опять есть мать. Хлопот с родителями не
оберешься, но все же без них ребенку хуже. Плохо без родителей, очень грустно и
плохо».
— А может, ты еще чего-нибудь натворил? Я говорю:
— Нет, ничего. .
— А ты не врешь?
— Зачем мне врать? Если бы я не хотел, так и про это не рассказал бы. Мама
говорит:
— Это верно.
И мы молчим. Но так, будто продолжаем разговаривать. Потому что у меня на уме
мой Пятнашка, а мама знает, что я чего-то не договаривав, что-то скрываю.
Мы, дети, любим беседовать со взрослыми. Они больше нас знают. Вот если бы они
только были р нами поласковей. Нельзя же все время ворчать, сердиться, ругаться,
кричать.
Если бы мама спросила не сегодня, а когда-нибудь в другой раз: «А ты не врешь?»
— я бы, наверное, разозлился, хотя, может быть, и ответил бы точно так же, теми
же словами.
Взрослые не хотят понять, что ребенок на ласку отвечает лаской, а гнев в нем
сразу роождает отпор.
«Да, я такой и другим уже не буду!»
А ведь каждому, даже самому плохому из нас, хочется стать лучше. Мы упорствуем,
боремся с собой, принимаем решения, стараемся изо всех сил, а если нам что не
удастся,— вы сразу: «Опять ты за старое!» Чело-гвеку уже казалось, что все
хорошо, что он горы свернул, а тут скова все начинай с самого начала. Такое зло
берет, так больно, что всякая охота «пропадает стараться стать лучше. Вот почему
у нас бывают такие неудачные дни и плохие недели. Как не повезло в чем-нибудь
одном, так сразу И в другом, и в третьем — все из рук валится.
А хуже всего, что ведь не повезло, а вы подозреваете злой умысел. Иногда
прослушаешь что-нибудь или ослышишься, не поймешь или пой-мешь неверно. А вы
думаете, что это нарочно.
Иногда хочется что-нибудь хорошее сделать, какой-нибудь сюрприз, а выходит
плохо, потому что нет еще опыта, и вот напортил, принес убыток...
Трудно жить тому, кто принимает все близко к сердцу. Я начал убирать в комнате.
Горшки с цветами с окна поснимал и пыль вытер. А потом стал везде пыль стирать.
Мама удивляется. Так мы с мамой как бы попросили друг у друга прощения за
вчерашнее. Потому что, кто знает, может быть, я и сам немного виноват?.. Не надо
было к обеду опаздывать.
— Иди побегай,— говорит мама.— Что дома сидеть?
— Давай я схожу в очаг за Иренкой. — Ну сходи.
Я пошел, а почему — и сам не знаю. Наверное, из-за Пятнашки. Потому что понял,
что о маленьких детях тоже надо заботиться. Плохой я брат. Вот собаку мне жалко,
а родную сестру я иногда просто не терплю.
Конечно, такой маленький ребенок всегда мешает, ему скучно, вот он и пристает.
Сделал я себе ветряную мельницу. Полдня промучился. — Дай. Начинает вырывать.
— Уйди, а то получишь!
— Дай, дай!
А мама что?
— Отдай, сделаешь себе другую.
Может быть, сделаю, а может, и нет. И потом, пусть она попросит, а не вырывает
из рук.
— Маааамаааа!
Я едва сдерживаюсь, так я зол. А ей даже хочется, чтобы я ее ударил, потому что
тогда уж она наверняка побежит жаловаться. II вот скандал:
— Ну и брат! Такой большой парень!
Когда выгодно — я маленький, когда невыгодно — большой.
И уже я не только за себя отвечаю, но и за нее.
«Ты ее научил!», «Ты ей показал!», «От тебя слышала!», «Твой пример!», «Одень
пальто, а то и она захочет без пальто!», «Пива и колбасы не получишь, а то и она
захочет!», «Иди спать, она одна не пойдет!»
И так тебе опротивеет эта девчонка, что уж не хочешь иметь с ней никакого дела.
Но нет: ты должен с нею играть.
Есть игры, где малыши могут пригодиться. Им тоже найдется дело. Но пусть
слушаются и не портят игры: ведь они не могут всего того, что можем мы.
Ей говоришь: «Сядь сюда, будешь делать то-то и то-то», а она не хочет. Хочет
бегать. А ведь мне отвечать, если она упадет и набьет себе шишку или платье
порвет.
Иду я по улице и думаю. Вдруг вижу, мой Пятнашка бежит. Я даже остановился. Нет,
это мне показалось. Даже и не очень похож... Теперь я опять думаю о Пятнашке...
«Может, не забирать его? Может, ему там лучше? А вдруг мама позволит, а потом
рассердится? Ведь если бы мама с папой хотели, то и без меня завели бы собаку.
Подожду, пожалуй, несколько дней. Что скажет Боичкевич, как там Пятнашка себя
ведет? Ведь напачкал же он тогда у сторожа. Правда, он там взаперти сидел».
Я теперь и сам не знаю, хочу ли я взять Пятнашку, чтобы мне веселей было, или уж
пусть остается, если ему там хорошо,— надо ведь обеспечить Пятнашке будущее. Я
спас ему жизнь и место ему нашел. А мне, может быть, заняться теперь Иреной?
Прихожу в очаг, а там малыши хоровод водят. Держатся за руки, ходят по кругу и
поют.
Воспитательница говорит:
— Чего стоишь, поиграй с нами!
И протянула руку. Я и встал в круг.
В другое время я, наверное, постеснялся бы и не захотел играть с маленькими, но
сейчас меня никто не видит. Я стал играть. Сперва только шутил, чтобы больше
смеху было. То присяду на корточки — я, мол, тоже маленький, то захромаю — нога
болит. Я хотел посмотреть, рассердится воспитательница или нет. Если
рассердится, я могу и уйти. Но воспитательница тоже смеялась. И я стал играть
по-настоящему.
Малыши довольны, каждый хочет стоять рядом со мной и держать меня за руку. Ну,
не каждый, некоторые стеснялись, потому что еще меня не знали. А Ирена сразу
заважничала: вот какой у нее большой брат. И уже начинает командовать:
— Ты встань там, ты здесь.
Думает, что, в случае чего, я за нее заступлюсь. Я велел ей вести себя
поскромнее, не то уйду.
Ну вот. Воспитательница хотела написать какое-то письмо и оставила меня с
малышами. А они слушаются, потому что воспитательница в соседней комнате.
Только один все время мешал. Я потом им стал рассказывать сказку яро кота в
сапогах, а этот чертенок нарочно мешает. Это так злят, что доказать невозможно.
Идем мы с Иренкой домой, а тут у меня в боковом кармане что-то звякнуло. И я
нашел два гроша. Если бы там нашлось побольше, я оставил бы для Бончкевнча, а
столько и оставлять не стоит, и я отдал их Иренке. Она тоже, когда у нее есть
что-нибудь, со мной делится.
Иногда я возьму, а иногда нет. Потому что, если возьмешь что-ттбудь у
маленького, сразу говорят: выманил.
Иду я, и мне так приятно вести за руку малышку. Поглядываю, куда ступить,
выбираю дорогу. Чувствую себя старшим и сильным. А ручка такая маленькая,
гладкая, словно атласная. Пальчики малюсенькие. И даже странно, что вот ведь
любишь этого ребенка, а иногда его нена-видишь.
Одну конфетку она сама съела, а другую мне дала. Мне не хотелось, но я съел, а
она смотрит на меня и смеется,— рада, что угостила.
Иногда приятно и самому что-нибудь дать, а не вте только брать да брать у
старших. Обидно, когда хочешь сделать подарок взрослому, а он не берет или даст
тебе взамен что-нибудь более ценное. Сразу плата. И чувствуешь себя неловко,
словно ты какой-нибудь нищий.
Если бы можно было так устроить жир, чтобы все втегда делали друг другу
что-нибудь хорошее? Когда мне было грустно, Ирена дала мне стек-лышко, теперь я
купил ей конфетки, а она мне одну дала. I Мы пришли. Входим. А у нас сидит тетя.
Тетя говорит: — Ну, вот и пришли твои телята.
Почему телята, а не люди? Что мы такого сделали, что нас тетка телятами зовет?
Телята только у коров бывают. Зачем тате грубо? Я сижу, отвернувшись к стене, и
пишу. И как раз в это время слышу рожок: едет пожарная команда...
— Можно?
Я умоляюще смотрю на маму и жду приговора. Не знаю, что бы я сделал, если бы
мама не позволила. Как часто взрослые скажут, не подумав: «Нет!» — и сейчас же
забудут, и не знают, какой нанесли удар.
Почему «нет»? Ну почету? Потому что боятся, как бы чего не вышло, потому что не
хотят беспокоиться, потому что им это не нужно, «совсем ни к чему». Ведь такие
пустяки, ничего серьезного,— могли бы и разрешить, да не хотят. «Нет»!
А мы знаем, что могло бы быть и «да», что это случайный запрет, что они
согласились бы, если бы дали себе хоть чуточку труда подумать, по-смотреть нам в
глаза, понять, как нам этого хочется.
Я спрашиваю:
— Можно?
И жду. Взрослые никогда и ничего так не ждут. Разве что заключенный — выпустят
ли его на свободу?
Я жду, и мне кажется, что, если бы мама не позволила, я бы не простил ей этой
обиды. Взрослые считают, что мы просим обо всем, что в голову взбредет. И тут же
забываем. Конечно, и так бывает, но бывает и седеем иначе. Иногда мы не решаемся
о чем-нибудь попросить: знаем, что все равно из этого ничего не выйдет. Л как
больно, когда отказывают, да с те с насмешкой, со злостью. Лучше уж затаить боль
и ни о чем не просить или долго и терпеливо дожидаться, не придут ли взрослые в
хорошее расположение духа, не будут ли так довольны нами, что не сммогут
отказать. Но часто и тут нас ждет неудача. Тогда мы сердимся и на них и на себя:
«Эх, зачем я поторопился, может, в другое время позволили бы!»
Мне кажется, что у взрослых какие-то другие глаза. Вот когда меня товарищ о
чем-нибудь просит, мне стоит на него только взглянуть, и я уже знаю, что делать:
согласиться сразу или поставить условие, расспросить поточнее, отложить на
потом. Если я даже и не могу выполнить его просьбу, то все равно никогда не
осмелюсь так вот, сразу, ему отказать без всяких объяснений.
Л взрослые и не догадываются, почему мы иногда упрямимся, делаем что-нибудь
назло.
А бывают взрослые, которые нас сперва будто и не замечают.
Скажут только:
«Здравствуй, орел!»
Или:
«Вот какой уже большой молодой человек!»
Ведь надо же что-нибудь сказать. И видно, что он иначе не умеет и как будто
стесняется. Если он погладит тебя по голове, то осторожно, словно боится, как бы
чего не сломать. Это сильные, добрые, деликатные люди. Мы любим слушать, когда
они разговаривают с другими взрослыми, рассказывают о каких-нибудь приключениях,
о войне. Таких людей мы любим.
Мама позволила мне пойти на пожар. Надо торопиться, а то пожарные проедут, и
тогда мне пожара не найти.
— Только сейчас же возвращайся!
Кто знает, что это значит: «Сейчас же возвращайся!»
Никогда не угадаешь, что тебя ожидает.
Вдруг мама еще что-нибудь добавит или Иренка привяжется. А потому я хвать шапку
— и был таков. Скачу через четыре ступеньки. Когда спускаешься таким манером,
надо крепко держаться за перила. Бывает, что и занозу всадишь. Но ничего не
поделаешь, приходится рисковать.
Один мальчишка сказал мне, где горит. Недалеко. Керосиновая лавка. Говорят, что
в подвале бензин. Если вспыхнет, весь дом взлетит на воздух. Полицейские
разгоняют народ. Сверкают каски пожарных.
Как красив пожар... И как благородна борьба с огнем...
Я то тут постою, то там, смотрю на пожар, а сам все думаю, что пора домой,— еще
только одну минутку постою... Но не остаться до конца невозможно, хоть и знаю,
что накажут.
Говорят, сейчас приедет скорая помощь: женщина одна обгорела. Огня уже не видно,
только дым...
Пожалуй, я не буду дожидаться скорой помощи. И так не протиснуться...
А тут опять поднимается вверх столб огня. Пожарник подает на второй этаж новый
шланг.
«Вот как пустит воду, так и пойду...»
А может быть, дом теперь рухнет?.. Уже даже хочется, чтобы поскорее все
кончилось.
Полиция нас отогнала. И опять плохо видно. И я хочу уходить. А тут говорят, что
у пожарников что-то испортилось и приедет новая команда.
Я вижу Фелека, и Бронека, и Гаезского... Поскорее бы погасили. Но никто не
отходит, а раз они стоят, одному уходить как-то досадно.
Прибегаю домой, а мама говорит:
— Нечего сказать — сейчас же!
Я жду, может, спросит, где горело. Но мама вышла из комнаты. Снова сажусь за
уроки.
Подходит Ирена: — Где ты был?
Я говорю: «Уйди», потому что только что прочел задачу и не очень-то понимаю, как
ее решать. А Ирена стоит. Тогда я говорю:
— Я был там, где горело. Ну, уходи! — Что горело?
Ведь все равно не поймет. Но я терпеливый. Я говорю: — Горела керосиновая лавка.
— Почему?
— Потому что у тебя нос сопливый. Пойди утрись! Она застыдилась и отошла. Мне ее
жалко. Зачем я так грубо сказал? Уже второй раз сегодня: утром Манеку, а теперь
ей. Я говорю:
— Пойди сюда, расскажу,
А она уже ушла. Наверное, обиделась. И я снова читаю задачу, пото-му что завтра
первый урок арифметика. А Ирена снова здесь:
— Я уже нос вытерла. Я ничего не отвечаю.
Она стоит и говорит тихо-тихо, будто сама себе: — У меня теперь чистый нос. И
штанишек не видно. Покорно так, боится, что я рассержусь.
Ну что? Пожалуй, придется ей рассказать? И я рассказываю. Она, конечно, ничего
не понимает. Про все спрашивает: «Почему?» Почему вода, почему шланги, почему
пожарники, какой бензин, живой ли, большой ли?
Маленькая, не понимает. Я ведь тоже ничего не знал. — Погоди, я тебе сейчас
нарисую.
Нарисовал пожарного в каске, шланг,— все ей объяснил. Если бы не мы, эти малыши
ничего бы не знали. Они все узнают от нас. Мы — от старших, а они — от нас. Я не
знаю, что еще сказать, и говорю:
— Повтори!
— В лавке загорелась вода. Приехала полиция и разгоняла. И был огонь, и был
пожар.
Она думает, что огонь и пожар это разные вещи.
— Пожар сделался от огня.
И опять у нее под носом мокро, но я уже ничего не говорю. Пускай. Все равно
задачи не сделаю. Стал учить вслух стихи, а Ирена слушала.
Вернулась мама, и я пошел во двор на каток: там большую такую площадку ребята
ногами раскатали. Я уже умею кружиться и ездить задом наперед. Хочу научиться
приседать на одной ноге. Четыре раза упал. Ушибся немного.
Когда я ложился спать, мне было грустно...
Еще тоскливее, чем когда был взрослым.
Тоска и одиночество, и жажда приключений...
Лучше бы родиться в жарких странах, где есть львы, людоеды и финики...
Почему люди всегда живут так скученно? Столько на св-ете пустого места, а в
городе тесно...
Эх, пожить бы среди эскимосов, или с неграми, или с индейцами...
Как красив, должно быть, пожар в степи...
Или хотя бы сад у каждого был перед домом! Посадили бы цветы на клумбах,
поливали бы...
И опять я думаю о Пятнашке.
Что я скажу Бончкевичу?
Потому что мне уже даже и расхотелось щенка брать. Возня с ним. Еще разозлюсь на
него и побью. И станет жалта. И дворник его отовсюду будет гонять, и ребята во
дворе. Слишком большая ответственность заботиться о живом существе.
Если Бончкевич хочет, пусть оставляет его у себя,
Любовь
У нас были гости. Мама надела платье, которое изъели столь. Но было незаметно,
потому что тетя хорошо переделала. Били именины, и все танцевали. Началось все
вечером, а когда кончилось, я не знаю, потому что я спал у Кароля.
И была Марыня из Вильно. И я с ней танцевал. Это дядя Петр велел мне танцевать.
А я совсем не хотел. А дядя Петр сказал:
— Так вот катай ты кавалер! Барышня к тебе из Вильно приехала, а ты с ней
танцевать не хочешь?
Я смутился и убежал на лестницу. Как можно так говорить? Разве она ко мне
приехала? Может быть, ей это неприятно. Но дядя поймал меня и поднял к потолку,
а я вырываюсь и ногами в воздухе болтаю. Дядя даже запыхался, а все не
отпускает. Я страшно разозлился, потому что сконфузился еще больше. А он
поставил меня на пол и говорят:
— Танцуй!
И отец говорит:
— Ну, не будь размазней, танцуй, она ведъ гостья!
Из Вильно.
Я стою и не знаю, что делать, потому что мне хочется убежать. И боюсь, что дядя
опять меня сцапает и начнет тормошить. Поэтому я только незаметно поправляю
куртку, смотрю, не отстегнулась ли пуговица, не порвалось ли где-нибудь.
А Марыня посмотрела на меня и говорит:
— Ты не стесняйся, я тоже не очень-то умею.
И первая подходит. И берет меня за руку. А у нее голубая лента,— большущий такой
бант сбоку завязан.
— Ну, пойдем попробуем.
Я взглянул со злостью на дядю, а он смеется. И все расступились, только мы
вдвоем стоим. И отец. Я знаю, что если не послушаюсь, то отец рассердится, а
может, и спать погонит. Ничего мне не оставалось делать.
Я стал с ней кружиться. В голове у меня шумит, потому что поздно И Я пил пиво. Я
ей говорю:
— Ну, хватит. А они кричат:
— Еще!
Мне жарко, а они спектакль себе устроила. А она не перестает, и я уже танцую
по-настоащему, под музыку, в такт.
Не знаю, долго ли это продолжалось. Наконец Марыня говорит:
— Ну, хватит, я вижу, что тебе не хочется. Я говорю:
— Почему не хочется, просто у меня голова закружилась. А она:
— Я могу танцевать всю ночь.
Потом взрослые танцевать начали, а мы стоим около двери — Ма-рыня и я.
Она говорит:
— Варшава очень красивая. Я отвечаю:
— Вильно тоже. Марыня спрашивает:
— А ты был в Вильно?
— Нет, нам только в школе учительница рассказывала. Она, Марыня, приехала в
Варшаву просто так и потом опять уедет в Вильно. Может, с неделю побудет.
— Надолго приехали?
— Кто?
— Ну, вы... с этой тетей... с твоей мамой?
— Нет, всего на недельку.
Ездят туда по железной дороге, ночью. Я еще никогда ночью не ездил во железной
дороге. —Я бы хотела,— говорит она,— всегда жить в Варшаве.
— А я — в Вильно.
Я это только так сказал, что, мол, Вильно тоже красивый город. А Марыня стала
перечислять улицы в Вильно, а я перечислял улицы в Варшаве. Потом разные
памятники и достопримечательности.
Она говорит:
— Приезжай когда-нибудь, я тебе все покажу. Я так глупо сказал:
— Ладно!
Как будто это от меня зависит.
Подошел Кароль, и мы заговорили о школе. Какие там учительницы — какие здесь,
какие там книжки — какие здесь.
Было очень хорошо. Но дядя Петр уже приметил, что мы не танцуем, поэтому я
поскорее отошел, чтобы он опять не привязался.
Потом Марыне велели петь. Она ничуть даже не смутилась. Когдл она поет, она
поднимает глаза кверху, словно смотрит на небо, и улыбается.
Потом мы опять разговаривали. Стефан говорит, что у них во дворе у троих есть
санки. Один санки такие большие, что можно вдвоем кататься.
Стефан говорит Марыне:
— Приходи, покатаю.
И хороший каток у них есть. Все у них, да у них. Не люблю я, когда кто-нибудь
слишком много болтает. Так и окончился мой бал, И эта дама, эта тетя, ушла и
увела с собой Марыню. А мама говорит:
— Может, ты спать пойдешь?
Я совсем не упрямился, только спрашиваю:
— Куда?
А мама говорит:
— К Гурским. Родителям Кароля.
— Завтра ведь в школу.
Я вижу, что если попрошу, чтобы разрешили еще немножко, то мама мне позволит; но
что мне тут делать? Спать хочется и скучно. Ирена тоже ушла сразу после ужина. А
я спал с Каролем. Кароль спрашивает:
— Почему у них в Вильно так тя-я-я-нут?
— Не знаю.
— Я хотел спросить у этой, у Марыни, но, может, ей было бы обидно.
— Конечно.
— А волосы у нее, как у цыганки.
— И вовсе нет, у цыганок волосы жесткие, а у нее — мягкие.
— Откуда ты знаешь?
— Видно ведь.
— А дядя Петр говорил, что настоящие цыганские.
— Дядя Петр все лучше всех знает,— говорю я со злостью. Кароль зевнул и затих, а
потом опять за свое:
— У нас ни одной такой нет. А я молчу.
— Мировая девчонка. А я все молчу.
— Хорошо поет.
Я жду, чтобы он повернулся на другой бок, потому что раз я гость, то мне
неудобно показывать, что я не хочу с ним разговаривать. И я спрашиваю: — Ты
приготовил уроки на завтра?
— Да что там уроки... Он зевнул и наконец говорит:
— Ну, надо спать. А почему ты сразу согласился уйти? Может быть, там будет
что-нибудь интересное?
— Чего там интересного... Перепьются, и всё... — А ты пил водку? Я две рюмки.
Завтра он в школе будет рассказывать, какой он герой: две рюмки выпил и голова
не кружилась.
Он повернулся на другой бок, накрылся и спрашивает:
— Тебе не холодно? Я не слишком на себя одеяло перетянул?
— Нет, хорошо.
Когда человек сонный, его всякий пустяк раздражает. Вот я на Кароля сержусь, а
он меня спрашивает, не холодно ли мне. И к чему я сказал, что они перепьются?
Если бы не дядя Петр, я, может, Марыне ни одного слова бы не сказал. Как мы
всегда из-за всего конфузимся... Всегда страшно, как бы не делать или не сказать
какую-нибудь глупость. Постоянная неуверенность: хорошо ли так будет, не станут
ли смеяться... Я уж и сам не знаю, что для нас хуже: когда смеются или когда
ругаются. И дома и в школе — всюду одно и то же. Задашь какой-нибудь вопрос,
ошибешься — сразу смех и издевательства. Эта боязнь стать посмешищем так
стесняет и сковывает, что совершенно теряешь уверенность в себе, а потому то и
дело попадаешь впросак.
Как на льду: кто больше боится, тот чаще падает.
«Ну, завтра надо сделать санки»,— подумал я и заснул.
И не успел заснуть, как меня уже будят, говорят, надо вставать. На ком-то деле я
проспал несколько часов, но так мне показалось.
За завтраком я тру глаза, есть мне не хочется, а отец говорит просто так, чтобы
испытать меня:
— Может, тебе не ходить сегодня в школу?
Потом побоялся, как бы я не обрадовался, и говорит:
Развлечения развлечениями, а школа школой.
Я внимательно проверяю сумку, чтобы чего-нибудь не забыть, ручку и еще что.
Потому что, когда человек сонный, он должен глядеть в оба.
Врет, все на месте. Я иду.
Иду. А про себя думаю, что еду в Вильно. Еду целую ночь. За окном
сыпются искры — огненные зигзаги.
И по дороге в школу, и на уроке я думал об этой поездке. А на втором Нее мне
захотелось спать, и я совсем забыл, что я в классе, и начал тихонько напевать
себе под нос.
А учительница спрашивает:
— Кто поет?
Ядаже и тут как следует не очнулся, оглядываюсь только: кто это поет, А
Боровский говорит, что это я. Учительница спрашивает:
— Ты пел?
— Нет.
Потому что я и в самом деле этого не заметил. И снова совсем забылся и во второй
раз начал петь, даже, кажется, еще громче. Учительница рассердилась.
А Боровский говорит:
— Может, и теперь скажешь, что не ты? Я отвечаю:
— Я.
Я теперь только понял, что ведь это действительно я вел, и тогда и теперь.
Учительница поглядела удивленно и говорит:
— Я не знала, что ты умеешь делать назло и лгать.
Разве учительница не видит, что у меня удивленное лицо и что я огорчён? Я ведь
люблю учительницу, и она ко мне всегда была добра. Зачем же я стану делать ей
назло? Я опустил голову, покраснел и молчу. Если начну оправдываться, все равно
не поверит. Теперь я знаю, что можно вдруг закричать или засвистеть словно во
сне. А они сразу:
«Назло», «экий необузданный мальчишка!»
Есть слова, которые в школе не следует произносить. Часто бывает, что невзлюбишь
человека за какое-нибудь одно неприятное слово, которое он часто повторяет.
А учительница велела мне сначала идти в угол, а потом сразу к доске. Велела
решать задачу, совсем легкую. Я ответ сразу узнал. Сосчитал в уме и говорю:
— Пятнадцать.
Учительница делает вид, что не слышит.
— Повтори задачу. Я говорю:
— Будет пятнадцать. Разве не верно? А учительница:
— Когда решишь, тогда узнаешь. Решай для всего класса! Я начнаю повторять. И
напутал. Ребята засмеялись.
— Иди на место! Двойка. А Висьневский спрашивает:
— На какое место ему идти, за парту или в угол? Я иду, а Висьневский нарочно
выставил локоть,— ну я ие удержался, да и толкнул его. А оя как заорет:
— Чего толкаешься?
Свинья. Боялся, что учительница не заметит. А учительница в нерешительности: со
мной ли покончить или его наказывать. И весь класс взбудоражился. То тихо сидят,
а как кто-нибудь одни начнет — сразу шутки, смешки, поддразнивание, разговоры.
Тут уж трудно успокоить. А за все отвечает тот, кто начал первый.
«Пусть их делают что хотят».
Я положил голову на руки и притворяюсь, что плачу, Это самое лучшее. Тогда тебя
оставят в покое. Но я не плачу, я очень несчастен.
Вдруг я подумал:
«Если бы Марыня была учительницей, она бы была не такая».
Ведь когда ученик себя плохо ведет, его можно как-нибудь по-другому наказать, а
не ставить двойку по своему предмету. У того, кто после меня дотел у доски и
мусолил ту же задачу, тоже в конце концов получилось пятнадцать.
Марыня бы так не сделала. Но она еще маленькая, и потом она, Марыня, уезжает.
Всю ночь по железной дороге — так далеко, в Вильно. И я ее уже больше не увижу.
Может быть, никогда не увижу. Никогда ее услышу, как поет Ма:ршы. А Марыня так
ласково улыбается, и у нее голубой бант. И мягкие-премягкие волосы, а вовсе не
как у цыганки.
Учительаяца, как видно, очень разозлилась, потому что подошла ко мне на перемене
и говорит:
— Если теба еще раз какая муха укусит, а директору скажу. Больше уж я за тебя
заступаться не стану.
И отошла. Не дала оправдаться. А если бы дала, что я мог бы сказать?
Что я влюблен в Марыню?
Лучше умереть, чем это сказать.
«Муха укусила! Не муха укусила, а учительница попрекает тем, прежним. Нельзя
попрекать одолжениями. Это больше всего обижает. Думают, что мы легко забиваем,
не умеем быть благодарными.
Нет, мы хорошо помним. И год, и больше. И каждую бестактность и каждый добрый
поступок. И мы многое прощаем, если видим доброту и искренность. Я учительнице
тоже прощу, когда успокоюсь.
Подходит Манек, начинает шутить. Видит, чсто я грустный, и хочет меня утешить.
— Ну что, будешь теперь арифметики бояться? Вот влепят тебе пять колов, так и
двойка удерет со страху. Только держи! Ты ведь математик лучше нет — на палочку
надет...
Я тихо сказал:
— Отстань!..
И выхожу во двор. Но не играю. Всякая беготня кажется мне глупой.
Как было бы хорошо, если бы все девочки были похожи на нее. А может быть, мы и в
самом деле поедем в Вильно? Может быть, папа там получит работу. Все может
статься.
Я взял в библиотеке книжку. Исторические повести. Буду читать.
Я возвращаюсь домой один. Манек не мог меня сегодня ждать. Иду и льдышку ногой
подбрасываю. Надо стараться ударить так, чтобы она прямо вперед летела, а она
летит то вправо, то влево. А я зигзагами за ней бегу. Стараюсь не
останавливаться, все время бегом. Хуже всего, когда она отскочит от прохожего и
совсем уж в сторону свернет или когда назад приходится возвращаться.. Я решил,
что возвращаться назад раз-решается до десяти раз.
Но я встретил отца, и он рассердился, что я рву башмаки: ведь от этого носок
сбивается.
Я вхожу во двор, смотрю: ребята катаются иа салазках. Ну, и я с ними стал. Не то
что уж очень мне было весело. Когда у тебя огорчение, играть можно, но то и дело
о нем вспоминаешь. Словно кто подходит и спраши-вает: «Забыл? Не помнишь?»
Это не укоры совести, а какая-то неотвязная мысль. Укоры совести совсем другие —
грозные.
Я два раза прокатил ребят на санках, и они меня один раз. И хватит.
Посидел у окна, а потом стал картинки в книжке рассматривать. Не нравятся они
мне. Первая картинка — всадник на коне. Битва. Вокруг рвутся снаряды. А он сидит
с поднятой саблей, как кукла. Держится прямо, словно палку проглотил.
Почему это для детей все делают хуже? Хороший художник для взрослых, а самый
никудышный — для детей. Книжки пишет для детей всяк, кому не лень,— и стихи, и
песни. Кого не хотят слушать взрослые, тот идет к ребятишкам.
А мы-то как раз больше всех любим хорошие сказки, картинки и песни.
Ребята крикнули мне со двора, что будут сейчас делать новые санки и чтоб я дал
им свои две доски, веревку и кусок листового железа.
Правда, они поворчали, что железа мало, а веревка короткая. Зато прочная.
Одна доска пошла на сиденье, а другая— на полозья. Если бы железа было побольше,
можно было бы целиком полозья обить: тогда возить легче. Но хорошо, что хоть
спереди-то обить железа хватило. Я им и гвоздей дал, один длинный, прямой; я его
на улице нашел.
Только потом обязательно передерутся. Начнут друг друга катать, а кто-нибудь
давай вертеться да еще свалится нарочно. Говоришь ему, что санки сломает, а ему
хоть бы что. Дал несколько досок — значит, имеет право.
А другой сам возить не хочет и сидит, словно барин. Мы часто ссоримся, это
правда, но вы только подумайте, какой у нас во всем произвол.
У взрослых есть суды. А у нас никаких судов, одни только жалобы. А взрослые
наших жалоб не любят. Рассудят, лишь бы с рук сбыть: или тот прав, кого они
больше любят, или младший, или оба виноваты, потому что нехорошо ссориться.
Когда-нибудь, может быть, люди будут жить в мире и согласии, но пока еще этого
нет.
А бывает так, что кто-нибудь обидится из-за пустяка, и тут же: «Раз так,
отдавайте мои доски и гвозди!»
Знает, что не отдадим. Что ж, разбить санки и вся работа насмарку? Ищи себе
другого товарища и начинай все сначала?
«Дети любят мастерить».
Верно, любят, но уж если что сделаешь, то хочешь, чтобы это не портили.
А то один что-нибудь нарисует, а другой, ни с того ни с сего, возьмет да и
порвет или запачкает. И так жалко! Или присмотришь палочку, шнурок, сделаешь
кнут — не хочется ведь, чтобы его ломали. Вот и с санками так же.
Правда, иногда даже хорошо, что сломают, потому что во второй раз еще лучше
получается. Но тогда надо заранее знать, что есть из-за чего начинать сначала:
например, инструменты лучше или больше материала.
Потому что, ну как тут сделаешь санки без молотка?. Приходится кам-нем
прибивать. И хоть бы камень-то был удобный. Правда, есть один такой камень, да
он в мостовой. Мы даже хотели его выкопать, а потом обратно вставить. А если бы
дворник заметил? Ну и задал бы нам! Неделю потом во двор не показывайся.
Ну вот, забиваю я гвоздь этим круглым неудобным камнем и ударял себя по пальцу.
Даже такая черная штучка на пальце вскочила. И еще проволокой кожу содрал между
пальцами, теперь, как станешь палец сги6ать, больно. Там в одном месте пришлось
стянуть проволокой, потому что нужен был длинный гвоздь, а мы вбили три
маленьких, и доска рас-кололась. Пришлось стягивать.
И так все время что-нибудь портится, и все время надо поправлять.
Приходит Юзек. — Эх вы, санки сделали, да не едут!
— Сделай лучше! — Захотел бы, так сделал!
— А ты захоти!
— Да на что они мне!
— Ладно, пошел отсюда. Не нравится — не смотри!
— А что, уж и посмотреть нельзя?
— Нельзя!
Один чинит, а двое отпихивают.
Наконец Франек говорит:
— Пустите его, лучше помогите держать, я один не могу. — А что он тут стоит,
ехидничает? — Пускай его ехидничает. У него санок нет, вот ему и завидно.
— Есть чему завидовать, развалина какая-то!
Иногда ссора переходит в драку, а иногда и неожиданно поможет. Так и теперь:
— Без молотка все равно ничего не сделаете!
— А раз ты такой умный, давай молоток! — Стану я давать, чтобы сломали! — А есть
у тебя?
— Конечно, есть! Хвалится или в самом деле? Но Юзек сбегал и принес:
— твой?
— А то чей же?
— Может, у отца взял?
— Да ведь я взял, а не ты!
Но если он взял без спроса и выйдет скандал, то влетит всем.
А у него и гвозди есть.
— Если позволите покататься, тогда дам. И еще достану.
Не надо было брать, потому что он хулиган. Но жалко времени, каждому хочется
успеть хоть немножко покататься. И мы согласились. Только и молоток не поможет,
если доска гнилая.
А Юзек тяжелый и так едет, словно нарочно сани сломать хочет.
Вся работа зря пропала. Опять ссорятся. Я иду домой. Грустно, грустно,
грустно...
Иренка видит, что я огорчен, и даже не просит меня поиграть с ней. Придвинула
скамеечку, села рядом и оперлась рукой о мою коленку... А я ничего ей не говорю,
только думаю: «Если бы Марыня была моей
сестрой!»
И знаю, что это нехорошая мысль, потому что я словно хочу, чтобы Иренки не было,
а у меня была бы другая сестра.
Я закрыл глаза и положил ей руку на голову. А она сразу голову мне на колени и
тут же заснула. А я сижу и думаю о том, что хорошо бы и Иренка была жива и
Марыня была счастлива.
Да, это так: я в нее влюблен, в Марыню.
Чего только не происходит в человеке, чего только в кем нет, и какое все разное!
Если поглядишь вокруг, то видишь дома, людей, лошадей, автомобили. Тысячи,
миллионы разных существительных: одушевленных и неодушевленных. И в мыслях
человека те же самые существительные. Я закрываю глаза и вижу дома, людей,
лошадей, автомобили. И у каждого существительного множество разных
прилагательных,
И в чувствах то же разнообразие. Я по-одному люблю Пятнашку, по-другому —
родителей, Манека, эту Марыню из Вильно.
Я говорю: люблю, очень люблю, влюблен.
И только.
А чувствую по-разному.
Очень странно.
Если бы я уже не был когда-то взрослым, может быть, я этого бы даже и не знал. А
теперь я знаю, что дети влюбляются, только не знают, как это назвать. А может
быть, они стесняются в этом признаться? Не то что сказать не хотят, а им и
мысленно стыдно в этом признаться.
Боятся даже сказать: «Эта девочка милая. Я ее люблю».
Потому что взрослые высмеивают любовь.
Скажут: «Кавалер и барышня».
Разве нельзя кого-нибудь любить — просто разговаривать, глядеть, играть вместе в
какую-нибудь игру, подать на прощание руку,— и чтобы никто тебя не выпытывал.
Чтобы никто даже не замечал.
Что поделаешь, раз это невозможно...
И я спрошу, словно нехотя: «Марыня, это красивое имя?» Или скажу, что у нее
красивая голубая лента в волосах. Или еще спрошу, почему у нее, когда она
смеется, делаются ямочки?
Но только я что-нибудь спрошу или скажу, как сейчас же начнут допытываться: «А
она тебе нравится? А ты бы на ней женился?»
Начнутся дурацкие шутки, уж я знаю...
Есть такие ребята, которые просто обезьянничают,— хотят подлизаться к взрослым,
и сами говорят: «Моя невеста».
Взрослые не любят, когда мы паясничаем, а выходит, что сами нас заставляют.
Оки не знают, как неприятно корчить из себя шута. Некоторые дети от этого и в
самом деле портятся, но большинство только испытывает обиду и неприязнь к
взрослым за их любопытство.
Я сижу тихонько и размышляю. И точно так же, как я, тысячи детей в разных
комнатах размышляют в сумерки о чудесах и печалях жизни, О том, что происходит
вокруг них и в них самих.
Об этих наших размышлениях взрослые не знают. Только спросят: Что ты там
делаешь? Почему не играешь? Почему так тихо?»
Какая странная вещь — сон!.. Иренка спит и ни о чем не знает. Вздохнула, видно,
ей что-нибудь снится. Наверное, я у нее в детском очаге есть дети, которых она
любит, и, может быть, она тоже не хочет об этом никому говорить.
Я сравниваю Иренку с собой, вспоминаю то время, когда я был боль-ным, и вижу,
что все мы похожи друг на друга. Во взрослом человеке много детского, в детях
много взрослого. Только мы не нашли еще общего языка.
Ну вот.
Я видел Марыню во второй раз.
Еще один-единственный раз была у нас Марыня. Даже не разделась. Они сказали, что
им надо идти, что пришли только проститься.
В тот, в первый раз познакомились, а теперь сразу прощаться...
Я стою у своего цветочного горшка. Я посадил горошины, и в горшке выросло уже
целых четыре листка, тут два и тут два,. Так приятно, когда что-нибудь посадишь
и потом вырастает. Поливаешь. И от воды — из земли, из зернышка вылезает росток.
Зеленый, малюсенький. Не было ничего, а теперь есть.
Я стою, а в руках у меня открытка: ангел с крыльями, а на краю пропасти — двое
детей. Нагнулись над пропастью и рвут цветы. Ангел следит, чтобы они не упали в
эту бездонную пропасть. Пришла Марыня с этой тетей, со своей мамой. Я ее тоже во
второй
раз в жизни вижу — какая-то дальняя родствевница.
И я думаю:
«Если Марыня заговорит со мной, я дам ей на память открытку.
А если нет, то нет».
Я ее купил для Марыни, потому что знал, что она придет, только
боялся, что буду в это время в школе.
Я каждый день сразу бежал из школы домой. Манек спрашивает:
— Куда ты так торопишься?
Мама удивляется:
— Разве занятия теперь раньше кончаются?
А я молчу. Что я им скажу?
У Марыни белая пуховая шапочка и такой же воротничок. И волосы
Ее мама говорит с моей мамой о каких-то там знакомых в Вильно. А она молчит.
Потому что я быстро поцеловал этой виленской тетке руку, и скорей цветочному
горшку.
она стоит и держится за свою маму. Я вынул из книжки открытку. Ту, с ангелом.
А она, Марыня, сразу ко мне пошла, бистро, почти побелила. А я — снова открытку
в книжку и, наверное, покраснел, потому что ещё
больше смутился.
Она остановилась, заслонилась муфточкой этой пушистой, и я улыбнулся. А она
тоже. И я отвернулся, словно смотрю на цветочный горшок. А Иренка подбежала и
показывает ей куклу. Иренка говорит:
— Смотри, какие у нее башмачки. Тогда я опять к ним повернулся. Марыня взяла
куклу и спрашивает:
— А у нее глаза закрываются? Я говорю:
— Нет. У маленьких кукол не закрываются.
Марыня совсем уже близко подошла и говорит, что и у маленьких могут закрываться,
только у совсем уж маленьких никогда не закрываются.
И потом говорит:
— Я уже уезжаю.
Я испугался, что она прямо сейчас уедет, и быстро вынул открытку с ангелом:
побоялся, что не успею отдать. Показываю и спрашиваю:
— Красивая? Она тихо ответила:
— Красивая.
Я говорю еще тише:
— Может быть, хочешь?
Я не хотел, чтобы Иренка увидела. Потому что маленькие любят во все вмешиваться.
А вдруг еще что-нибудь громко скажет.
Но мама с тетей разговаривали и ничего не услыхали. Марыня говорит:
— Напиши что-нибудь на память.
Она это таким голосом сказала и смотрит, соглашусь ли. Все хорошо вышло. Я тут
же быстро написал: «На память о Варшаве». И приложил промокашку.
А Марыня говорит:
— Ой, размажешь! Я отвечаю:
— Смотри, совсем не размазалась! Но «Н» немножко размазалось. Она говорит:
— Ну, это ничего! И добавила:
— Ты очень красиво пишешь! И еще:
— Напиши, кому и от кого...
— Зачем?
Марыня подумала, склонила головку набок и говорит:
— Да, правда...
Но я написал: «Марыне из Вильно».
И завернул в серебряную бумагу от шоколада. Потому что у меня уже все было
припасено.
Но вижу, что чересчур уж блестит. Тогда я вырвал страницу из тетрадки и обернул
еще раз.
А она:
— Ой, страницу вырвал!
Я говорю:
— Ничего!
А моя мама говорит:
— Снимите пальто!
А ее мама:
— Нет, мы должны сейчас же идти!..
Марыня положила эту открытку, этот сверток, в муфточку и спрашивает:
— Ты какую букву больше всего любишь писать?
Я говорю:
— Заглавное «Р».
— А я заглавное «В». Дай бумаги, я тебе напишу. Но карандашом.
посмотрим, кто красивее пишет.
И она написала. И я тоже. Только я не старался, хотел, чтобы у нее
вышло красивее.
Она говорит:
— Ну, чья красивее?
Смеется, а зубки у нее беленькие, ровные-ровные.
И говорит:
— На открытке ты красивее написал!
Я покраснел и говорю:
— Когда удастся, а когда и нет...
Мы писали «Варшава, Вильно» — разные слова, а потом числа. Она говорит:
— Я страшно не люблю писать восьмерку: всегда выйдет какая-то
перекрученная.
А я отвечаю:
— Ну да. Восьмерка редко хорошо получается. И тебе ведь, Марыня,
в пальто трудно писать.
Тогда она посмотрела на свою маму и говорит:
— Пожалуй, раздеться, или как?..
Но им уже надо идти.
Марыня хотела эту страничку порвать, но я не дал.
— Зачем тебе?
— Пусть останется.
— Зачем?
Я тихо сказал:
— На память!..
— Ну, какая это память. Разве это годится на память! Я тебе из
Вильно пришлю красивую открытку.
— Но оставила.
И я показал ей горшок с горохом. Сказал, чтобы он? его взяла. Но как она с этим
горшком поедет?
Марыня погладила пальцем каждый листик.
А ее мама говорит: — Ну, пошли.
И поднимается со стула. Марыня быстро встала подле своей мамы. И мы уже больше
не разговаривали, я остался около горшка. Они еще долго так говорили, стоя. А
можег быть, недолго, только теперь уж я хотел, чтобы они скорее ушли. Я боюсь
прощаться. И слышу:
— Ну, ребятишки, прощайтесь!.. Я еще больше отвернулся.
— Ну что, так и не попрощаетесь? Может быть, вы уже поссорились? Не поцелуетесь
на прощание? Марыня говорит:
— Я с мальчиками не целуюсь.
— Вот ты какая,— говорит моя мама.— А не споешь нам на прощание?
— Могу.
А ее мама говорит:
— Ну уж когда в. следующий раз приедем. А то горло перегреешь. Марыня
поцеловалась с мамой и с Иренкой, а мне только руку подала. И так гордо.. Даже
не улыбнулась. В перчатке. И они вышли. А мама:
— Ты бирюк. Вот Марыня — молодец. А ты у меня совсем неотесанный.
Я благодарен Иренке.
Я ее поцеловал — привлек к себе и поцеловал в голову.
— Ты была хорошей девочкой, Иренка,— сказал я. И начинаю готовить уроки.
И так мне хорошо, спокойно. Так хорошо все получилось с этой открыткой. Красивая
открытка. Сперва я хотел купить с цветами, потом с видом: лес, около леса домик
и лошадь стоит. Еще были две красивые, но на одной надпись: «С днем рождения». А
с ангелом, пожалуй, самая красивая. И горы, и пропасть, и цветы, и этот ангел,
их охраняет.
Когда у меня будут деньги, я куплю такую же. Марыня, наверное, не пришлет,
забудет, когда вернется в свой Вильно.
Я переписываю на завтра стихи. А рядом лежит Иренкина кукла. С этой куклы все и
началось. И горшок с четырьмя листочками. Потом, когда горох будет расти, новые
листья появятся выше, а эти четыре окажутся внизу. И, наверное, они первыми
опадут. Подождать, пока они пожелтеют и опадут сами, или сорвать их еще зелеными
и засушить на память? Пока еще я не знаю.
Я переписываю на завтра стихи. Пишу очень старательно. В этом отрывке было одно
заглавное «В». Я постарался написать его как можно красивее. Уж и не знаю,
приятнее ли мне писать заглавное «Р» или заглавное «В».
И я посматриваю на ту страничку, на которой мы писали буквы.
Да, ничего не поделаешь: я люблю ее и больше ее не увижу. Только страничка с
буквами осталась и четыре гороховых листочка...
А может быть, она и в самом деле напишет? Или встречу на улице какую-нибудь
похожую девочку. Так ведь и с Пятнашкой было.
Девчонки противные. Гордячки, вечно ссорятся, кривляются. И любят притворяться,
будто бы они взрослые, а ребята — хулиганье.
Девчонки сторонятся нас, а захотят подойти, так словно милость тебе оказывают.
Ну да, какие-то они более нежные. И платьица у них, и бантики, и бусы —
понавешают разных украшений. А выглядит красиво. А если б мальчишка — было бы
смешно. А ведь есть и мальчишки с длинными волосами. Точно куклы. Неужели не
стыдно? — Ну да, но почему мы должны им уступать? Девчонку нельзя ни уда-
рить, ни толкнуть. Сразу скажут: «Она девочка!» А когда мальчики л девочки
учатся в школе вместе и мальчик пожа-луется учительнице на девочку, та отвечает:
— Ты мальчик, а с девочкой сладить не можешь?
Хорошо, в другой раз слажу. И снова скандал. И непонятно, как же все-таки надо
поступать.
Если бы взрослые не напоминали все время, что вот это мальчик, а вот это
девочка, мы, наверное, и забыли бы. Но разве они дадут за-быть. Сами говорят,
будто нет разницы, а на деле получается наоборот. Мне неприятно так думать, но
ничего не поделаешь. Ведь не могу я врать. Марыня тут не виновата. Можех быть, и
в самом деле это только в Варшаве так?
А она написала. Правда написала. Сдержала слово. Прислала открытку с видом
Острой Брамы. И адрес, и марка — все есть. Не постыдилась написать мальчику.
Смелая.
И петь не стыдится, и первая сказала, что будет танцевать. У меня эта открытка
лежит теперь вместе с той страничкой и листочками. Только один листок сломался.
А недавно у нас была экскурсия. Не по железной дороге, а через мост и парк. Так
хорошо было.
Мы хотели идти посреди улицы по четыре человека в ряд, а не про-тискиватся
парами: тогда не так будут толкать, Но учительница не позволила. И правильно.
Потому что ряды сразу расстроятся и выйдет неразбериха. Тот пинается, эти еле
волочатся, одни вправо идут, другие влево. "Но и парами идут не в ногу и не на
равном расстоянии.
Интересно было. Когда мы переходили через улицу, остановились два извозчика и
одна машина. Как-то приятно, что и мы что-то значим,— останавливаются.
Я иду в паре с Манеком. Главное, выбрать себе хорошую пару и знать, кто идет
перед тобой, а кто за тобой.
Всего красивее было на мосту, потму что вода в Висле замерзла, — А есть такие,
которые купаются в проруби.
— А ты бы побоялся? — Чего?
— Ну, холодаю!.. — Ну и что ж, что холодно?
Ведь приятно попробовать и доказать, что не боишься. — Из воды может сделаться
лед или нар.
Странно, правда?
— А разве не странно, что муха может по стене ходить, а рыба в воде спит?
— Или лягушка. Получается из головастика. ЧуднО!
И мы разговариваем с Манеком о том, что будто бы у нас есть лодка и мы возьмем
хлеба, сыра, яблок и поедем в Гданьск. По каким притокам Вислы будем плыть, мимо
каких низменностей и плоскогорий и исторических мест.
Мы играем, а выходит как бы урок, экзамен.
Школа добрая, она позволяет человеку долго и много думать о разных вещах. Одно
узнаёшь из географии, другое — из естествознания, третье — из истории. И сам не
ожидаешь, как все это может пригодиться, когда думаешь..
— В Гданьск или в Краков?
— Нет, против течения трудно.
— А если на моторке?
Хорошо бы при каждой школе был свой корабль. Корабль стоял бы у пристани, а мы
бы его сторожили. По очереди: каждые сутки другая четверка. А как только лед на
Висле тронется, сейчас же поднимем паруса — и в путь.
Неделю — один класс, неделю — другой. И делать все по сменам: то
ты в каюте, то с парусами, то за рулем.
Мы и сами не решили, будет ли это парусник, пароход, моторка, яхта
или даже плот.
А снег так славно сверкает на солнце.
В парке белым-бело.
Мы бежим наперегонки. Некоторые даже хотят снять пальто... Но учительница не
позволяет. А ведь когда бегаешь — тепло. И у себя во дворе мы играем без пальто.
Мы не очень настаиваем, не хотим, чтобы учительница кричала. Хуже нет, когда
всем хорошо, а кто-нибудь сердится.
Учительница накричит на одного, а неприятно всем. Но один всегда найдется.
Сегодня это Малицкий. Учительница велела ему идти с Рудским. А он не хотел: они
друг друга не любят. И тот всю дорогу его толкал. Учительница рассердилась,
говорит, что мы идем, точно банда, и она больше с нами ходить не хочет,— люди
оглядываются, стыдно... А Малицкий назло лезет под пролетки, и учительница
боится, что его задавят. Но ведь ходит же он каждый день в школу один, и никто
за ним не следит. Значит, пусть бы и шел, как хочет. Да нет, знаю, что нельзя,
потому что, если позволишь одному, сейчас же все разбредутся.
И в парке, когда надо было домой уходить, насилу собрались. Раз уж такой путь
проделали, хотелось побыть подольше. Всем там было хорошо, никому не хотелось
возвращаться. Некоторые послушались и строятся. Но увидят — пары нет, стоять
скучно — и уходят пару искать. Послушные видят, что другие играют, а у них ноги
мерзнут стоять и ждать. И они теряют терпение.
— Пошли!
Жалеют, что послушались. Другие бегают, а они должны стоять и смотреть, как
учительница сердится.
Постоят, постоят, да и разбредутся. А те видят, что еще мало народу собралось, и
не торопятся. Каждому хочется быть последним, чтобы не ждать.
— А я бы не стал сердиться. Если бы учительница отправилась сразу.
хотя бы с тремя парами, другие стали бы их догонять, и так бы понемногу все
собрались. Может быть, кто-нибудь и сказал бы:
— Ну и пусть их идут! Сам домой дорогу найду...
Но, наверное, все-таки побоялся бы остаться, потому что накажут,
тоже догнал бы. А если и нет, так он один и виноват. Нельзя ведь сразу на всех
обижаться.
Если бы взрослые нас спросили, мы бы им много хорошего посове-товали. Ведь мы
знаем свои недостатки, и времени у нас больше, чтобы
приглядеться друг к другу: мы больше бываем вместе. Один, конечно,
него не сообразит. Но все вместе разберемся.
Мы молчим только потому, что не знаем, что можно говорить, а чего нет.
На обратном пути я сказал Манеку про Марыню из Вильно.
— Знаешь, Манек, я получил открытку из Вильно. Цветы. Незабудки. Очень красивая
открытка.— И добавил: — От одной девочки.
Я сказал, как ее зовут и в каком она классе.
— Только помни, это тайна!..
Я сказал, что танцевал с ней на именинах, н что она хорошо поет, что у нее
темные волосы.
— Видишь, Манек, а ты тогда сердился, что я Бончкевичу первому рассказал про
Пятнашку. Я ведь должен был ему рассказать, потому что он не хотел мне давать в
долг денег. И тогда я еще не знал тебя так хорошо...
Мы взялись за руки и идем так. А Манек говорит, что и ему нравится одна девочка.
— Потому что она всегда грустная.
— А моя Марыня, наверное, веселая.
На мосту мы уже ни о чем не говорили. И только потом я спросил: — Ты не
сердишься, что я тогда сказал про твоего отца? Я думал, что Манек не расслышал,
потому что как раз проехала грузовая машина. Военный грузовик, тяжелый. Цепи так
и бренчат. И трое солдат в кузове, а шофер в гражданском — не знаю почему. А
один сол-дат держал собаку. Собака встала передними лапами на край кузова,
голова у нее подпрыгивает. Выражение такое испуганное.
Но Манек услышал:
— Я не сержусь, только ты так больше не говори... Какой бы уж ни был отец... Ну,
каждый ведь сам знает, какой у него отец. А когда кто другой скажет — неприятно.
— Я тебе не хотел сделать больно,— говорю я.— У меня только так сорвалось.
— Я знаю,— говорит Манек.
Ну, и теперь мы с Манеком друзья. Я и открытку принесу в школу покажу ему.
Я попросил у него прощения и рассказал ему свой секрет, чтобы он подумал, что я
только о нем хочу все знать. И приглашу его к себе
Как смешно взрослые требуют, чтобы мы просили прощения!.. Только кто-нибудь
сделаешь,— сразу: «Иди попроси прощения!»
Не бойтесь, если я знаю, что не прав, я попрошу прощения, только когда-нибудь
потом... Я уж выберу такую минуту, когда можно будет, потому что иначе получится
только вранье и фальшь.
А Марыня смешно написала:
«Дорогой кузен!
Я уже в Вильно и не хожу в школу. Я ехала целую ночь, и простудилась, и у меня
был жар. Целую тебя 100000000 раз. Любящая тебя
Мария».
Мне стыдно показать Манеку эту открытку.
Учительница велела описать прогулку в парк. В рассказе должны быть четыре части:
дорога в парк, в парке, возвращение и заключение.
Учительница меня похвалила, сказала, что я хорошо написал.
Я написал:
«Была хорошая погода, и учительница повела наш класс на прогулку. Мы шли по
разным улицам. По обеим сторонам улицы высятся большие дома, а посреди — уличное
движение. По рельсам едут трамваи, а не по рельсам — такси, пролетки, повозки и
т. п. Снуют прохожие, а на углах стоят полицейские.
В парке мы играли в разные игры. Парк покрыт снегом. Деревья голые, потому что
на них нет листьев. Их вершины уходят высоко в небо. В парке нет памятников
старины, зато летом растут трава и покрытый сочными листьями кустарник.
А на обратном пути мы опять шли по железному мосту. Мы смотрели на лед. И всю
дорогу шли парами.
Экскурсия в парк нам очень понравилась, потому что все время светило солнце и мы
играли в парке в разные игры».
Писать сочинения противно, потому что никогда не пишешь правду, а всегда только
то, что велели в школе.
Оказывается, Марыня простудилась и была больна. Может быть, она была тяжело
больна, а я ничего не знал. Она могла даже умереть, потому что дети тоже
умирают. Я радуюсь, что получил открытку, а на самом деле беспокоюсь.
И зачем она сюда приезжала?
Я раньше знал, что в Вильно у меня есть тетка, кажется, слышал, что у нее есть
какие-то там дети, может быть, даже говорили, что девочка, Марыня. И вдруг я ее
увидел. Зачем?
Какое, собственно, она имеет ко мне отношение? Дальняя родственница, какая-то
троюродная сестра. Если бы не дядя, я бы даже с ней не заговорил, а если бы она
пришла проститься, когда я был в школе, я бы ее уже больше не увидел. Может
быть, порвать открытку и покончить с этим? Зачем терзаться? Зачем думать? Зачем
беспокоиться, здорова ли она, не случилось ли с ней чего плохого?
Все равно я ей ничего не отвечу, потому что нет денег на открытку.
А вот нет, дали.
— На, озорник,— сказал отец и дал мне злотый.— Купи себе, чего тебе нужно, или
сбегай в кино. А мама сказала:
— Не давай мальчишке денег, избалуешь.
И я взял, как-то глупо, неуклюже.
Так неожиданно это получилось. Потому что отец считал деньги, насчитал не то
тридцать один, не то сорок один. В общем, один злотый был как бы лишний. А я
рядом стоял. Ну, он и дал мне.
А когда я взял, мне стало жалко отца. Ведь не очень-то много у него этих злотых,
да и дети сколько стоят. Вместо того чтобы себе что-нибудь купить, покупает нам
то пальто, то башмаки. А еще еда, школа. И за все это ему одни только заботы и
огорчения, если я плохо себя веду.
Когда я хотел стать ребенком, я совершенно забыл, что не буду сам на себя
зарабатывать и стану обузой.
Но ведь нет, дети не дармоеды...
Их работа — школа. Правда, у нас каникулы длинные, но и учитель в это время
отдыхает. Наша работа не легче, чем у учителя. Ведь для нас все трудное и все
новое.
А говорят, что дети ничего не делают, даром хлеб едят.
Когда я хотел стать ребенком, я совершенно забыл, как трудно не иметь своих
денег.
Например, у меня плохая линейка. Кто-то сделал на ней зазубрины. Я оставил ее на
парте, прихожу после перемены — нет линейки. Ищу, ищу и, наконец, нахожу на
другой парте. Найти-то нашел, да край в зазубринах. С такой линейкой уже не
начертишь — карандаш задевает. Бывают линейки с железным краем. А наши, как
назло, из мягкого дерева. Забудешь, ударишь о парту — и сразу остается
зазубрина.
Сколько у нас разных вещей пропадает, а мы ничего не говорим.
Если пожалуешься, учительница скажет:
— А ты следи!
Но ведь во время перемены нельзя оставаться в классе, да и вообще разве можно
все время следить?
Теперь у меня есть злотый.
Видно, судьба.
Я куплю открытку для Марыни. Отдам Бончкевичу десять грошей и возьму Пятнашку.
Куплю линейку, чтобы была про запас. Может быть, шнурки для ботинок купить?
Чтобы, когда порвутся, мама не ругала. Может, Манеку что-нибудь надо?..
Хорошо бы в кино сходить, но как? Пойти одному и скрыть от Ма-нека? А сказать,
что был, Манеку будет обидно.
Злотый — это как будто много. А как начнешь подсчитывать, видишь, что и злотого
не хватает.
Мы отправились с Манеком искать красивую открытку. Ангел у нее есть, незабудки
она сама мне прислала. На одной был нарисован мальчик с девочкой, но эту я взять
постеснялся, потому что получается как бы она и я.
Было бы куда легче выбрать, если б можно было войти в магазин.
А входить неприятно. Смотрят, как бы ты чего не стянул, не помял, не заапачкал.
Торопят. Не любят, чтобы ребята все рассматривали. Говорят: — Ну, скорее! Видно,
что хотят, чтобы ты ушел.
Потому что у детей только гроши, на детях много не заработаешь.
Взрослый тоже не сразу покупает, Взрослому позволят просмотреть все альбомы.
Потому что если он сегодня купит открытку, то завтра, может быть, придет опять и
купит еще что-нибудь. А с нас что толку? Гроши да гроши.
Я сразу отдал долг Бончкевичу.
Пока у меня не было денег, я даже не смел спросить его о Пятнашке.
— Вот тебе десять грошей, которые ты мне тогда одолжил на молоко.
— Я ведь сказал, что прощаю тебе долг.
— Не хочу. Что поделывает Пятнашка?
— Как — что поделывает?
Он что-то не отвечает. Может, родители не позволили ему держать собаку? А может,
сам выгнал?
— А он у тебя?
— А где ж ему быть, раз ты его бросил?
— Я его не бросил, я тебе отдал!
— А если бы я не взял?
— Тогда, может быть, кто другой взял бы.
— Думаешь, родители так сразу и позволят взять собаку? Я злюсь, что он так
важничает. Говорю:
— А почему бы и не позволить?
— Твои ведь не позволили?
— Да я у них и не спрашивал!
Я завидую, что все ему так легко. Ведь я веду одинокую жизнь, а собака — друг
человека.
Я знаю, зависть нехорошее чувство. Но как не завидовать, если мальчишке так
повезло, а он даже ценить этого не умеет?
И мне любопытно — узнал бы меня Пятнашка? Поэтому я проглатываю обиду и говорю:
— А можно мне на него посмотреть?
— Ладно уж, приходи, покажу...
— А дашь мне его домой? На один день?
— Ишь, сразу всего захотел. Мой, так мой. Да он уж и не пойдет за тобой!
— А ты почем знаешь? Может, и пойдет!
— Он уж ко мне привык.
— Ну и держи его!
— Ну и буду держать!
Я отхожу. Что с ним разговаривать? Все равно не поймет.
Теперь у меня только один Манек остался.
С ним мы все время вместе.
Утром встречаемся и вместе идем в школу.
На перемене вместе.
И вместе возвращаемся домой.
Один он у меня остался.
А может, грешно так думать?
У меня ведь есть отец, мама, Иренка.
Я забыл еще, что мы тогда, когда она прощаться приходила, сдували со стола
колесико. Лежало там колесико — то ли от часов, то ли еще от чего-то.
И Марыня сказала:
— Кто сильней дунет?
Ну, и она дула в одну сторону, а я — в другую.
Иренке мы тоже позволили дунуть два раза на колесико.
Серые деньки
Уже у второго ученика шапка пропала.
Поднялся целый скандал.
Хуже всего обстоит дело во втором классе. Там пропадают книжки и тетрадки.
Решили устроить обыск.
Учителя говорят, что это позор для всей школы. Каждый перечисляет, что у него
пропало, а учительница записывает.
У меня ничего не взяли. Был у меня, правда, кусочек резинки, с четвертушку. На
неделю бы еще хватило. Она пропала. Может, в школе, может, на улице, а может, и.
дома куда завалилась.
А некоторые, как начали диктовать, так получалось, будто во всей школе одни
воры. Называли все: кто что потерял или подарил и забыл. Учительница еле
поспевала писать.
Наверное, кое-кто и врал. Потому что Панцевич спросил меня: — Почему ты не
сказал, что у тебя что-нибудь пропало? Может, школа оплатит.
А ведь это хуже воровства — требовать, чтобы тебе отдали то, чего никто у тебя
не брал.
— Ну, есть, конечно, ученики, у которых много чего пропадает. Бросит где попало,
а потом не знает, где искать. Или даст кому-вибудь к забудет.
Нам чаще, чем взрослым, приходится брать в долг друг у друга. В школе велят
что-нибудь принести, а дома не дают. Как тут быть?
А хуже всего, когда тебе не верят. Взрослому, если он человек честный, все
доверяют, а. ребенок всегда под подозрением. — Мне надо денег на картон. — Опять
на картон? Ведь ты недавно покупал! Как это обидно! Что, я этот картон ем, что
ли?
Мы теряем деньги, забываем, куда положили,— это правда. Но у взрослых есть
большие карманы и столы с выдвижными ящиками. Хо-дят взрослые медленно, не
играют, не бегают. И все-таки они тоже теряют вещи и забывают, где что лежит.
Когда ты все помнишь, ничего Р теряешь, этого никто не замечает. Но чуть что
пропало, сразу скандал. В театрах есть гардеробщики, и одежда выдается по
номеркам. Как тут чему-ниоудь пропасть?
А в школе каждый сам вешает пальто и шапку, и сам их берег. Да еще второпях.
Триста учеников повесят пальто аккуратно, а пять-шесть побросают кое-как. Но об
аккуратных никогда не говорят. Детей только ругают.
Я хотел снова стать ребенком, чтобы избавиться от мелких сереньких забот и
печалей взрослых, а теперь у меня другие, ребячьи, заботы, от короторых я
страдаю не меньше. Когда я был взрослым, я только остерегался воров.
Л теперь мне больно.
Почему один берет у другого? Как гак можно?
Нас терзает печаль, что не может быть все хорошо.
«Ничего не поделаешь!» — говорил я, когда был большим.
Л теперь я не хочу, не хочу, чтобы так. было!..
Шапка так и не нашлась. Ученики должны собрать деньги.
Значит, придется сказать дома. А дома нападут на школу:
— Одни воры у вас там!
— И чего только учителя смотрят?
А ведь это несправедливо. Чем школа виновата? Разве учителя могут за всем
уследить?
Сколько огорчений и хлопот из-за одного такого мальчишки!
После уроков я никак не мог найти пальто, и Манек меня дожидался.
Ищем, а сторож говорит:
— Вы чего тут высматриваете?
— Не высматриваем, а пальто мое куда-то перевесили.
— Чего не терял, того не найдешь,— говорит сторож.
— Ведь не мог же я без пальто в школу прийти!
— А кто вас там знает. Наконец я нашел пальто.
— Ну, нашел? Вот видишь: где повесил, там и висит.
— Вы не видели, так и не говорите.
— Не груби, а то подзатыльник получишь.
И когда только взрослые перестанут угрожать детям побоями!
Некоторое время мы с Манеком идем молча.
— В крови есть какие-то шарики,— говорит Манек,— в которые входит воздух.
Странно устроен человек! Ни одной машины нет на него похожей. Если часы не
заведешь, они остановятся. А человек без завода действует бывает и сто лет. Вот
в газете писали, что одному старику сто
сорок лет.
И мы говорим о том, каких кто знает стариков. А потом о ветеранах.
И о том, что они помнят восстание.
— А ты бы хотел быть ветераном?
— Нет,— быстро ответил Манек.— Я хотел бы, чтобы мне было лет
пятнадцать — двадцать.
— Тогда, может быть, твоих родителей уже не было бы в живых. Он подумал-подумал
и ответил печально:
— Пускай уж тогда все остается, как есть.
Мы попрощались, подали друг другу руки и посмотрели в глаза. А девчонки всегда
целуются, даже если и не очень любят друг друга. Мы, ребята, правдивее. А может
быть, у них только привычка такая?
Что было потом?
Да ничего особенного. Разные уроки.
А на уроке физкультуры учитель показал нам новую игру.
Все разбиваются на две партии. Проводят черту — границу. Одни — с той стороны,
другие — с этой. И перетягивают друг друга, как бы в плен берут. Сначала игра не
ладилась, потому что ребята нарочно поддавались, когда хотели перейти на другую
сторону. Или же перетянут кого-нибудь, а он вырвется и спорит. Но постепенно
игра наладилась, и стало весело.
Мы просили, чтобы нам позволили играть до конца урока, до звонка, но учитель
сказал: «Нет!»
Трудно понять, почему.
Я думаю, надо так: выбрать несколько игр, которые всем нравятся, н играть в них.
Сколько лет ребята играют в салки, в чижа, в классы, в лапту, а теперь еще и в
футбол! Почему же это должно вдруг надоесть? А тут на каждом уроке что-нибудь
новое. Так ни в одну игру играть не дааучишься. Только условия узнаешь. А чтобы
всеми приемами овладеть, не одна неделя нужна.
Взрослым кажется, что дети любят только новое: новые игры, новые сказки.
Есть, конечно, ребята, которые обязательно скорчат гримасу и скажут с
презрением:
— Это мы уже знаем, это мы слыхали!
Но на самом деле хорошую сказку, интересный рассказ мы можем много раз слушать.
Ходят же взрослые много раз на один и тот же спектакль, а ведь взрослым скорее
все надоедает. Детям хочется хорошо знать то, что им понравилось, но учитель в
школе всегда спешит, ему всегда некогда.
Славно мы поиграли на уроке физкультуры.
А на урок математики пришел инспектор.
Нам говорят, чтобы мы всегда старались, даже когда никто на нас не смотрит. А
взрослые не всегда так поступают.
При инспекторе все ведут себя иначе. Даже директор. Школа сразу становится
праздничной. И чего они боятся, непонятно. Ведь инспектор самый обыкновенный
человек, он даже добрый.
Инспектор дал нам задачу. В задаче спрашивается, сколько куплено 6аранов. А
Дроздовский со страху ослышался и говорит: «баранок». Мы думали, инспектор
рассердится, и учительница будет потом ходить сердитая. А он только рассмеялся:
— О баранках думаешь? Видно, большой любитель. Тут и все рассмеялись. И отвечали
хорошо. Даже учительница сказала, что хорошо.
Наступил день именин учительницы. Был сильный мороз, а мы уговорились украсить
класс хвоей. Но у нас не было хвои. И мы решили на-писать учительнице
поздравление на красивой бумаге, но перессорились, и тоже ничего не вышло.
Потому что это надо было сделать сообща: один напишет, а все подпишутся. Сначала
хотели собрать по пять грошей, а потом стали спорить, кто купит бумагу и что
написать. Кончилось тем, что нарисовали несколько картинок и положили
учительнице на стол. А на доске написали: «Поздравляем госпожу учительницу!»
Хотели еще добавить: «Желаем счастья и здоровья!»
Некоторые предлагали написать: «Желаем красивого мужа».
И еще разные глупости выдумывали. Но мы им не позволили это писать.
Мы очень торопились, чтобы успеть за перемену.
Учительница посмотрела и ничего не сказала, только улыбнулась. Не, видно, она
ждала, что мы ее поздравим; урока не было, вместо урока читали вслух.
Учительница принесла книжку «Наш малыш». Хорошая книжка, грустная.
Только зачем она все время прерывает чтение и объясняет. Ведь, если слушаешь,
все и так понятно. А не поймешь, догадаться можно.
Если читают что-нибудь неинтересное, то пускай объясняют: время быстрее
проходит. А когда интересно, боишься, что дочитать не успеют. И, если
чего-нибудь не понимаешь, это не мешает, даже таинственно получается.
Учительница кончила читать и уже перед самым звонком поблагодарила за
поздравление.
Я знаю почему. Боялась, что если в начале урока поблагодарит, то поднимется шум
и нельзя будет читать. Учителя боятся всякого праздника в классе, всякой
радости, всякого взрыва веселья.
Еде мы играли во дворе в разные игры. Вот и все развлечения. А огорчений много.
Потому что и за других обидно.
Учитель разорвал Хессу новую тетрадь: «Не старался, торопился, когда писал». А у
Хесса мать больна и работы по дому много. Хесс хотел совсем не готовить урок, но
побоялся, что учитель рассердится. А вышло еще, хуже. Учитель сказал:
— Ученик, который не стыдится подавать учителю такую мазню...
И порвал тетрадь.
Хесса я не очень любил. Сидит он далеко от меня, мы почти и не разговариваем. Он
какой-то шальной, ни в чем удержу не знает — ни в озорстве, ни в игре. И, видно,
очень бедный.
Но меня удивило, что он плачет. Прежде я никогда не видел, чтобы он плакал. А
теперь у него слезы текли. И весь урок он сидел насупившись.
Писал в новой тетрадке и не старался? Самый большой лентяй и грязнуля и то?
поначалу всегда старается...
Но ведь у него мать больна. А он и раньше не так уж красиво писал. Другой и
хотел бы писать красиво, да не может. И еще в дешевых тетрадках плохая бумага
или бывает, перо старое, бледные чернила, промокашка мажет.
У меня как раз была новая тетрадка, я и дал ему. Он обрадовался. У отца он не
мог бы денег попросить, у них теперь такая нужда...
И еще одно огорчение.
Новый школьный врач нашла у Крука на рубашке вошь. И давай честить и его и всех.
Почему мальчишки не моются, и когти у них длинные, и башмаков они не чистят.
Сказала бы, что нашла вошь у одного, зачем весь класс обвинять? И зачем доводить
человека до слез? Ну, случилось. И еще неизвестно — может, от кого переползла.
Ведь не с одними же чистыми мы встречаемся. И сидим вместе, и пальто на пальто
висит. И дома жилец есть, мо-жет, и грязный. А маленькие братья и сестры все
время во дворе. И сразу же разные колкости и насмешки. Даже наших матерей
помя-нула. Этого-то уж она никак не имела права делать... А подлизы, чтобы
понравиться, разные шуточки отпускают. И все смеются. Чистить башмаки? Хорошо.
Но для этого надо иметь ваксу щетку. А что делать, если щетка вся стерлась и
осталась одна дере-вушка?
И за небольшую баночку ваксы надо отдать двадцать грошей. Раза два можно слюнями
почистить, только потом башмаки выглядят еще хуже; тут уж и вакса не поможет.
И еще огорчение: у Манека жмут башмаки. Манек стер ногу и стал еще сильнее
хромать. У меня забота с пальто на рост, а у него и того хуже.
Дома сказать про башмаки боится, начнут кричать, потому что, когда покупали,
хотели взять на номер больше, а он говорил, что и эти ему велики.
— Не понимаю, что случилось. Разве только человек растет не всегда одинаково. Та
пара, когда износилась, была даже еще велика. Тогда у меня нога совсем не росла,
а теперь за полгода такие лапы выросли, что и сам удивляюсь. Все мне мало!
Гимнастику совсем делать не могу,
борюсь, как бы все у меня не лопнуло, потому что и так все по швам тре-щит.
Учитель сердится, что я не нагибаюсь, рук как следует не вытягиваю и плохо
марширую, а не посмотрит, как я одет. — Что же ты будешь делать? — спрашиваю.
— Почем я знаю... Когда уж совсем ходить не смогу, может, дома Вами заметят. И
тогда будь что будет — ну отругают, изобьют. Я ведь не виноват, что расту.
Когда-нибудь перестану.
Потом мы говорили о том, что, если щенку давать водку, он будто бы перестает
расти. Может, оттого и пони бывают, что им раньше водку да-вали. в прошлом году
объявления про цирк возил такой хорошенький
— Ты его видел?
— А как же!
— На Новом Свете?
— Нет, на Маршалковской.
— Самое большое мое горе — это то, что в школе мне трудно. Я забываю все, что
знал, когда был взрослым. Я уже не могу теперь больше не
слушать на уроках, должен все время быть внимательным и старательно
готовить домашние задания.
Мне трудно отвечать. Я не уверен в себе. Каждый раз боюсь, что не
умею ответить, не получится.
— Когда учительница или учитель смотрят на учеников, собираясь кого-нибудь
вызвать, сердце начинает биться как-то по-другому. Не то что страшно, но как-то
не по себе. Словно следствие: хоть и не виноват, да не знает, чем кончится.
И всегда зависишь не от одного себя, а от всего класса. Одно дело отвечать,
когда класс знает и понимает, другое — когда не знает и учи-тельница раздражена.
Если кто-нибудь скажет глупость, после него уже трудно хорошо ответить. Поэтому
есть дни, когда все, даже самые плохие ученики, знают уроки, и дни, когда весь
класс словно поглупел.
Ну, ничего не поделаешь: не знаю, не понимаю, не могу. Разве менее способным
детям и вовсе нет места на белом свете?
Учительница вызвала меня к доске. В голове вертится только одна
фраза: "Опять двойка".
Другой умеет откашляться, принять уверенный вид или сделаться покорным, вызвать
жалость или умеет воспользоваться подсказкой, притворяется, будто отвечает, а
сам только и ждет, чтобы учительница подсказала.
Может быть, в последнюю минуту случится что-нибудь такое, что принесет мне
избавление?
Ребята показывают на пальцах, что скоро звонок. Но меня это ничуть не радует.
Потому что учительница, наверное, задержит меня после урока,— и это еще хуже. А
если даже она мне и ничего не поставит, то все равно запомнит.
— Плохо!
Я и сам знаю, что плохо, и жду, начнет ли она ругаться или высмеивать.
Но случилось самое худшее.
— Что с тобой сделалось? — говорит учительница.— Ты совсем распустился. Не
слушаешь на уроках, пишешь небрежно. И вот результат. Мы вчера делали подобную
задачу. Если бы ты был внимательнее...
Все погибло!
Учительница больше меня не любит. И сердится за то, что ошиблась во мне. Видно,
лучше быть сереньким, незаметным, средним учеником. Это безопаснее, проще,
легче. Потому что меньше к тебе предъявляют требований, не надо так напрягаться.
Я опустил голову и поглядываю исподтишка на учительницу, потому что не знаю,
жалеет она меня или совсем уже больше не любит.
Учитель никогда не скажет, любит он ученика или не любит, но это чувствуется: у
него становится совсем другой голос и другой взгляд.
И ты очень страдаешь, и ничего не можешь поделать. А иногда ты готов
взбунтоваться.
Ну, чем я виноват?
Тем, что Бараньский придумал себе глупую забаву и брызнул мне в глаза
апельсинной коркой? Так защипало, что сил нет. Но я ничего не сказал, только
глаза тру.
А учительница спрашивает:
— Что ты еще там придумал? Вместо того чтобы слушать...
Ведь не станешь же на это отвечать! Разве так не бывает?
Тебя кто-нибудь ущипнет, а ты вскрикнешь и подскочишь. И ты уже виноват.
Учителя не знают, как мы боимся таких, про которых говорят: «В тихом омуте черти
водятся».
Такой делает что хочет, и ему ничего не будет. Просто несчастье сидеть с таким
за одной партой. Не лучше и если он сидит сзади. Нет тебе тогда ни минуты покоя.
А в другой раз была тут капелька и моей вины.
Сижу я на уроке и вижу, что у Шчавиньского сзади на куртке пять глых пальцев.
Кто-то на перемене вымазал пальцы мелом и приложил, от и не знает, что у него на
спине рука отпечатана.
Ну, я и попробовал примерить, правая это рука или левая. Я хотел издали, но
нечаянно дотронулся. А он обернулся. Учитель ему замечание делает, что он
вертится. А Висьневский кричит: — Ого, глядите, какая у него на спине пятерня!
Учитель начал меня ругать.
Я показываю руку, что, мол, чистая. А учитель говорит:
— Ну-ка постойте оба за партой!
Мы стояли недолго. И не в том дело. Досадно, что все наши дела ре-шаются наспех,
кое-как, что для взрослых наша жизнь, заботы в неуда-чи — только дополнение к их
настоящим заботам.
Словно существуют две разных жизни: их — серьезная и достойная уважения, и наша
— пустячная.
Дети — это будущие люди. Значит, они только езде будут, значит, их 1к бы еще
нет. А ведь мы существуем, мы живем, чувствуем, страдаем, аши детские годы — это
годы настоящей жизни. — Почему и чего нам велят дожидаться?
Я размышлял о своей серенькой взрослой жизни, о ярких годах детства Я вернулся в
него, дав обмануть себя воспоминаниям. И вот я всту-пил в обыденность детских
дней и недель, Я ничего не выиграл, только утратил закалку — умение смиряться.
Грустно мне. Плохо.
Я кончаю эту странную повесть.
Одни события быстро сменяются другими.
Я приношу в школу открытку Марыни, чтобы показать Манежу. А Висьневский вырывает
ее у меня из рук. — Отдай!
Висьневский убегает. — Отдай, слышишь? Висьневский прыгает с парты на парту. —
Отдай! Сию же минуту!
Висьневский машет в воздухе открыткой и орет во все горло: — Триптих! Письмо от
невесты!
Я вырываю. Комкаю. Рву в клочки.
И не заметил, что один обрывок упал на пол.
А Висьневский кричит:
— Ребята, глядите! Она его сто миллионов раз целует.
Я подбегаю — и по морде.
Директор хватает меня за руку.
Да, испортился мальчишка. И рисовал хорошо, и писал без ошибок.
А тепреь невнимательный. Неусидчивый. Плохо готовит уроки.
И посылает за матерью.
— Погоди... Пусть только отец с работы вернется! Уж не будет тебе
денььги на кино совать!
Я осажден со всех сторон.
Манек пробует меня утешить. Я понимаю это, но не могу сдержаться. Грубо
отталкиваю его, бросаю бессмысленное обвинение:
— Все из-за тебя!
Манек смотрит на меня с удивлением.
За что? Почему?
А все из-за открытки.
Ненавижу Марыню.
— Дура! Девчонка! Всю бы ночь танцевала! Глаза к небу закатывает!
Жалко, что далеко. Назло бы ей сделал. Побил бы. Бросил бы бант в канаву.
Я вырываю горох из цветочного горшка... и в окно. У Ирены на глазах слёзы. Она
чувствует, что случилось что-то страшное.
Никого и ничего у меня нет.
Пятнашка, где ты?
Нет.
К чему мне этот пес? Пускай достается Бончкевичу за проценты. Купил за десять
грошей. Пускай ему руки лижет.
Я уничтожил все, что мне было дорого. Порвал со всем миром.
Остался один.
Мать?
Она ведь сказала, что отрекается от меня. Что у нее есть только Ирена. А меня
нет.
Недостойный, преступный, проклятый, враждующий-с жизнью.
Все меня покинули. Повсюду измена.
Неусидчивый. Плохо готовит уроки.
И учительница, и Пятнашка, и мать.
Я побежал наверх, на чердак, и сел на ступеньку перед дверью. Во мне пустота, и
вокруг пустота. Ни о чем не думаю. И из глубины души я вздохнул.
Сквозь щелочку чердачной двери проникает свет. Вылезает человечек, покачивая
фонариком.
— Ага!
Гладит седую бороду. Ничего не говорит.
Безнадежным шепотом, сквозь слезы:
— Хочу стать большим!.. Хочу стать взрослым!.. Перед глазами мелькнул фонарик
гнома.
Я сижу за письменным столом. Кипа тетрадей, которые надо проверить. Перед
кроватью линялый коврик. Грязные стекла. Ошибка.
Слово «окно» написано через «а». Зачеркнута буква «а», а над ней — «о». И опять
зачеркнуто «о», а сверху снова написано «а».
Я беру синий карандаш и пишу на промокашке «акно» — «акно»... Жалко. Но
возвращаться не хочется... |