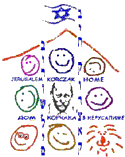|
Хагит Гиора.
В Е К
Тема – террор и дети, само сочетание этих слов вызвало испуг
и желание отдалиться. Не смотреть в ту сторону. Инстинкт самосохранения
человеческой психики. Ведь само название – не знаю потенциала и возможностей
Интернета – но само название может повлечь вал «жареных» блюд, оснащённых
перчеными деталями, всяческими литературными усилителями – чтобы попотрошить
эмоции. Устрашившись, сразу же и сказала о том отважному инициатору начинания
Мише Польскому: страшно открывать шкатулку Пандоры. И даже – противолитературно.
Какие тут чувства. Какие мысли. Онемение. Оцепенение. Что, просто бить по башке
молотком, раздрызгивая остатки эмоций? Ведь достойные выражения по этому поводу
– жалость, оплакивание и т.д. – устрашающе бессмысленны. Скорее – инфляция всех
этих чувств. Есть вещи, которым приличествует молчание.
Я вынуждена поразмыслить над этим узелком, над которым вовсе не имела желания
размышлять, взвешивать его и вообще задерживаться и оставлять его в своём
сознании. Хватит с нас Катастрофы. Но меня почти принудили: вдвинули в тему.
Ладно. Пробую размышлять на тему.
.
Прошлое столетие – век Гулагов – приучило наш слух и зрение к чудовищным
сообщениям и к чудовищным кадрам. ТВ, вообще средства информации, очевидно,
вырабатывают в нас новый порог чувствительности, восприимчивости вещей. Чтобы
уцелеть и не разрушить психику, мы должны организовать для себя некий панцирь,
отражающее устройство, которое всю эту информацию, как пинг-понг, отшвыривает
обратно. Иначе не спасёшься. Так называемый порог чувствительности надо завышать
и завышать, иначе нас расколошматит на первой же фразе обычных новостей. А тут –
«дети и террор». Ужас!!
Нет. Уносить ноги подальше от этой темы.
(Это размышление вслух, не обязывающая беседа. Компьютер развращает. Что
приходит в голову – с такой лёгкостью можно набрать, перебирая клавиши, и
отослать, не тревожась за точность формулировок, за слово, за его
единственность, в некое общее, и, следовательно, ничейное пространство. Я
пробую, вы это учтите.)
Дети – это, по определению, те, которые не озабочены проблемой выживания. Эту
заботу за них несут взрослые. Дети и любовь, недостаток любви, недостаток
внимания, непонимание - вот проблемы детского тематического «концензуса». Сама
формулировка – дети и террор – выходит за рамки того, что поддаётся обсуждению,
всяческим соображениям.
Наши детки нынешнего века – чистенькая картинка, сидят при компьютерах,
развлекаются, тычут кнопки и познают, если не жизнь, то науки и
научно-популярные игры в яркой форме, специально для них придуманные острыми
умами.
Современные детки.
Но мы-то с вами прекрасно знаем, что к армейским заслонам подходят школьники с
ранцами, а в ранцах – взрывное устройство, о чём дети и не ведают. А может, и
ведают. Ведь если четырёх- и пятилетки маршируют с игрушечными автоматами и в
защитных костюмчиках Хамаса или Эль Аксы в ревущем и скандирующем море взрослых
– почему бы не взорвать или не взорваться вкупе с евреями через несколько лет
после маршировок в детском саду? Мечта броситься на амбразуры взращивается в
поколении с самых невинных лет. Чем невиннее, нем неистовее. Прошлое столетие
нас этому научило.
Я не о том, что «их» взрослые плохие или что они неправильно воспитывают своих
детей. И как бы им объяснить, как правильно воспитывать. Я не о том.
Я – о нашем времени, которому, как и во все времена, мы, живущие в нём, задаём
вопросы, тщетно колотясь об него и не получая ответ.
«Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки?»
Никто лучше поэта не сказал и не скажет.
Понять век – задачка до конца жизни. Кто успеет управиться?
Моисей спрашивал Бога – как понять Тебя? Увидеть Лицо Твоё – не из праздного
любопытства, но чтобы попытаться хоть чуточку разобраться … Выполнять-то
указанное мы выполним, мы – твои рабы, и никуда нам от этого не деться. Но вот
ещё и понять бы…
Из того же стихотворения Осипа Мандельштама:
«Словно нежный хрящ ребёнка
Век младенческой земли –
Снова в жертву, как ягнёнка,
Темя жизни принесли.»
Да, всё то же: легче всего, доступнее всего, всегда под рукой. Работает
безотказно и безнаказанно. От детских жертвоприношений до прелести и соблазна
изысканного глумления (Ставрогин и девочка Маруся). И бесовство всё с большим
размахом, всё шире и раскованнее шагает по земле. Террор интеллектуальный, род
нервной щекотки для скучающих, род развлечения, и примитивно-политический – не
близнецы, но братья.
Рассмотреть Катастрофу – задача непосильная.
Не преодолённый ужас, который всегда остаётся. То, что ты преодолел, ты можешь
вставить, как кирпичик, в строение своего бытия. На это обопрёшься, ибо это
стало опора. Но не преодолённый ужас – зияющая дыра, чёрная дыра в сознании,
которая уволакивает в себя все живые впечатления, как те чёрные безответные дыры
в космосе, в которых сам свет исчезает безвозвратно.
В одном большом семействе много лет уговаривали пожилую родственницу рассказать
о Катастрофе. Женщина категорически отказывалась. Под всякими предлогами: кому
это интересно, это всё глупости, которые касаются только её и т.д. Словом, она
относилась к тому, что сидело в её памяти, как к некоему негигиеничному пятну,
которое следует тщательно прикрывать, никого не подпускать к нему и оберегать от
него окружающих. Родные, молодое поколение, настаивали, убеждали, горячились.
Наконец, женщина сдалась и кое-что рассказала. Нехотя, прерывая себя и снова
восклицая, кому эта ерунда интересна. То были эпизоды, как девочка с пяти до
девяти лет переходила из дома в дом, из убежища в убежище. Как её будили среди
ночи и спрашивали имя – требовалось, чтоб она забыла собственное еврейское имя и
сразу сказала нужное польское. И чтобы ни в коем случае не перепутала. Однажды
немецкий офицер пригрозил польской женщине, что у этой рыжей девчонки –
еврейские глаза, и если он ещё её увидит, то отправит её куда следует. Женщина
прятала девочку, не выпускала её наружу. Но офицер пришёл проверить дом. Женщина
усадила его за стол. Она говорила и угощала. На столе была длинная до пола
скатерть, и девочка, когда приходили чужие, сидела под столом, прикрытая
скатертью. И в этот раз она там сидела, и рядом ноги офицера в сапогах, с
подошвами, укреплёнными гвоздями, - шляпки гвоздей перед нею, такой блестящий
узор.
Так вот, старая женщина, рассказывая, как она сидела под столом, вдруг закрыла
лицо, как дети, когда они прячутся от кого-то и не хотят на что-то смотреть, -
так она обеими руками вдруг закрыла лицо и, отмахиваясь, встряхивая коротко
этими старческими своими ладонями, повторяла – «ой! ой! гвозди!» И вскрикивала
тихонько тонким голоском эти «ой». И отмахивалась от гвоздей, от этих подошв
перед лицом. Сейчас, в 2004-м году.
Ужас, который всегда с тобой.
Мне нечего по этому поводу сказать. Вообще, по всем этим поводам нечего
говорить. Слова слышатся безнравственно.
Но вот ещё одно соображение.
Как-то Израиль был сотрясён историей мальчика, выехавшего на каникулах к родным
в Россию, похищенного и, после долгих усилий государственных и всяких других
организаций, возвращённого домой, то есть в Израиль. Мальчик вернулся без одного
пальца, без мизинца. Палец этот был доставлен родне как первое предупреждение,
что ожидает заложника, если родные не расплатятся с похитителями должным
образом.
На ТВ был устроен душераздирающий и чувствительнейший вечер, мальчик был гвоздь
программы. Множество взрослых солидных и серьёзных людей, более или менее
причастных к этому бурному делу, выражали чувства и впечатления. Так сказать,
публичные люди. Немало было причитающих, ужасающихся, сострадающих. Вопрошали,
как же он сейчас без мизинца. Ахали. Вот ужас-то. У всех перед глазами наверняка
маячил завернутый в тряпочку отрубленный палец, доставленный папаше мальчика,
чтоб вразумить, чем чревато дело, что так просто он сына не дождётся, чтоб начал
действовать – то есть, добывать деньги для выкупа. Всё как в ужастиках, когда в
посылках доставляют расчленённые кусочки.
Но сам мальчик на диво мало говорил и особенно «не выражал». Сдержанность и
какое-то зрелое достоинство разительно отделяли его от эмоциональных
расплескиваний окружающих.
Потом была ярмарка - большие яркие коробки – подарки, компьютер и т.д. от разных
фирм. Что может понравиться герою? О чем он может мечтать? Всё тебе, бери,
дорогой! Сцена на студии была завалена коробками. Ведущий наяривал энтузиазм
свой и зала. Каждой коробке полагались бурные аплодисменты.
Помню, я заёрзала, созерцая этот громовой победный финал. Фирмы могли дарить
мальчику, что им нравится, и взяли чудный тремп по этому поводу, и именно по
телевидению. Захлеб и восторг ведущего всё более походили на ажиотаж аукциона –
кто больше и шибче выставит расписных коробок – и всё задаром! Поскольку ребёнок
пострадал.
Я, зритель, ощущала неловкость, затем стыд, и после потонула окончательно в
омерзении. Но запомнила одну вещь и уцепилась за неё, чтобы выплыть. Когда
дрожащий вопрос (как же так теперь – без мизинца) был задан герою события,
мальчик сказал: я вернулся без пальца, но с головой, и это лучше, чем наоборот.
И прекратил поток сочувственных расспросов.
И я подумала: то, что случилось, мальчик превратит в строящий его жизнь
кирпичик. Мальчик укрепится и повзрослеет. Чего нельзя сказать об окружающих
взрослых, включая журналистов ТВ. Они-то уж точно никогда, никогда не сумеют
заглянуть в зрачки этого странного существа – нашего века.
****
... Роль ментора, тем более литературного, мне не по нутру. «Каждый пишет, как
он дышит». И тут ничего не попишешь, я в этом убеждена.
Вот мои смягченные и осторожные мнения ...
1. Смерть исламиста.
С объявленной в конкурсе темой связывает только игривое название. Сам рассказ
увлекает – в начале. Добротная словесная ткань. Энергия и глубина и – ожидание,
во что это раскрутится. Но, увы, рассказ становится пересказом современных
повсеместно обговариваемых проблем, расплывается в разговорах обо всём и гаснет.
Столь интригующий вначале герой с каждой новой реалией тускнеет и превращается –
так вот в чем дело! – в жёлчного, тотально зацикленного на себе старика, никого
не любившего, никого в жизни не заметившего, (жена рядом с ним испарилась).
Естественно, теперь ему, бедному, не с кем поговорить, и вот – сострадайте все,
ведь он так одинок. Он изумительно никого не видит, ни мальчика, перед которым
распускает перья своего духовного одиночества, ни жены. Так что посочувствовать
ему трудно. О, одиночество, как ты перенаселено (Станислав Лем). Увы, вздохнем и
мы по этому поводу.
2. В то лето
Славно написано, сильно, страстно. Горячо. Даже – разгоряченно. Как живо
пульсирует в тексте жизнь. Очень хочется подбодрить автора и сказать – пишите
ещё, как вам чувствуется – так и пишите. Вот где вопль детей, брошенных в мир –
без руля, без ветрил, без родительского, без учительского, без дружеского слова.
Какое-то великое сиротство поколения. Кошки научают своих котят, как входить в
этот мир. Дети же оставлены взрослыми в сплошном хаосе бытия, потому что сами
взрослые ничего в этом бытии не разобрали. Ужас оставленности, я бы сказала,
почти террор детского одиночества. Сиротство душ, крик о нём – трогает и
волнует. И всё же причислить этот рассказ к теме, объявленной в конкурсе, мне не
удаётся. Но – талантливая вы натура!
3. Тетрадь Маугли
Текст вызвал во мне напряжение, некоторую нервную щекотку и – недоверие. С точки
зрения психиатрии врач-энтузиаст с его правильным и безупречным лозунгом, что
детям необходима любовь и понимание и внимание и т.д. и т.д. – чудовищно
безграмотен. Так что вполне закономерно шитый белыми нитками эксперимент
заканчивается убийством. Все угрызения совести, муки, поэтические фразы о
закатах и недомолвки, составляющие канву повествования, представляются
искусственно накачанной экзальтацией, за которой не стоит ни настоящее
сочувствие, ни знание об этих подростках, ни понимание проблемы. Фраза « ты
видел когда-нибудь прозрачных детей, тлеющих изнутри от амнезийной пустоты,
рычащих на рассвете от кошмарных снов», и ей подобные – сильна. Она приглашает
и, возможно, желает затянуть нас туда поглубже, - а не заглянуть ли нам, братцы,
в ужас, а, каково? И она вызывает во мне сильнейшее сомнение к тексту. Можно
выкупаться ещё и ещё в подобных описаниях, можно не вылезать из них. А дальше?
Сладость патологии, острота беспредела – жанр давний, многообразный, но пусть он
останется в ведении судебной психиатрии, профессионального психоанализа.
4. Домашнее задание
Трогательно, правильно, выдержано, актуально. Ни единого лишнего слова, ни одной
лишней фразы. Это просто хорошо. Несомненно, это следует поместить в страничку
Вашего, Миша, журнала. Когда-то учили: прошла зима, настало лето, спасибо партии
за это. Теперь – учат про Благовест, но литературные достоинства учебного стишка
те же. Дети не в силах просечь мероприятия по зомбированию, и потому они,
дивясь, обращаются к чистому звездному небу. Хорошая актуальная страничка.
П.С. Текст так гармоничен и отшлифован, что от него ощущение невероятной
литературной зрелости, чувства формы. В нём та самая простота, которая есть итог
всех наших литературных устремлений.
|
| Александр
Крестинский
ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие друзья.
Мне кажется, что наш конкурс "Террор и дети" начался удачно.
Я обратил внимание на цикл стихов "Черный ящик" (Хронология беспомощности). Этот
цикл из 6 стихотворений. Автор - человек несомненно одаренный и думающий.
Стоит отметить так же цикл стихов "Без перемен". Я рад представить эти стихи
для публикаций. Жаль, что не все из них соответствуют теме конкурса.
Также хочется отметить стихотворение, написанное юным автором в соавторстве с
мамой «Я так хотел...». Это по-моему замечательный пример творческого
содружества, в результате которого появилось на свет волнующее произведение.
Надеюсь, что продолжение конкурса будет более активным, выявит новых интересных
авторов.
Хочется поблагодарить также и всех авторов, не попавших в этот обзор. Само
участие в нашем конкурсе, честная попытка осмысления этой нелёгкой темы
заслуживает безмерного уважения. И если сегодня вам, дорогие наши авторы, не
хватило литературного мастерства, или просто чувствуется, что вы пока
недостаточно овладели темой, недостаточно осмыслили её – у вас всё впереди. Но
дай Бог, чтобы тема нашего конкурса как можно скорее устарела и он потерял
актуальность.
Цикл
стихов "Черный ящик".
Нервная, прерывистая ткань стиха, соответствует тревоге, граничащей с
отчаяньем. Мысль автора отталкивается от убежденности в том, что
времени, как философской катергории, уже не существукт. Это горький
вывод молодого еще человека, который живет в эпоху особой войны, когда
небольшая кучка маньяков может придумать, спланировать и осуществить
акцию, подобную 11 сентября 2001 года. Поразительна изощренность
гибельной фантазии, которой обладают эти Бин-Ладаны и им подобные.
Хочу сказать, что тут есть своя зловещая эстетика зла,
которая расчитана на то, чтобы поразить воображение
народов и создать в мире атмосферу всеобщего страха.
Это новая ступень террора, почерпнутая как бы из
дешевой псевдофантастики и асоциальной философии.
Наш автор реагирует так, как только может реагировать
нормальный человек на безумие, ибо нынешнее состояние
террора - это безумие, где бы оно ни происходило - в
Нью-Йорке, Беслане или Москве. Образ "Черного ящика"
пронизывает всю подборку, он трагичен, ибо он один
остается "в живых". Какая-то странная связь
устанавливается автором между террором и
непредумышленным убийством: "Сам виноват, не прыгай под колеса, жизнь
копейка, что остается человеку? Молитва? Душа ревет от горя".
Читаю "Черный ящик" и думаю вот о чем. На минуту
представил себе, что моя поэтическая юность началась
не в пост-блокадном Ленинграде, а там, откуда автор
Черного ящика". Трудно представить каковы были бы мои
настороения и чувства, когда зловещий удар пришелся по самой надежной
стране планеты. Хотелось бы, чтобы автор этих стихов нашел для себя
реальную опору в жизни.
|