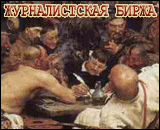|
ПРОДОЛЖЕНИЕ
2
А Пашка уселся в углу игровой комнаты на стульчик и прижимал к себе одноухого
старого медвежонка. Если бы он мог перевести свои чувства и маленькие нехитрые
мысли, получилось бы совсем простое житейское: оставьте меня в покое… Ему было
хорошо здесь. Привычно, понятно, тепло, сытно, а если кто-нибудь начинал
задирать его в минуту, когда он задумывался, рядом сразу оказывалась Зинка.
Зачем ему такие… он не знал, что дальше… Америка была просто словом, он совсем
не понимал, что это значит, а перед глазами его всё время светофорили ярко-рыжие
густые кудряшки на руках Тома. Разве он может быть отцом? “Пахой папка!” —
наконец сформулировал Пашка и успокоился.
Он положил медвежонка на полку, тянувшуюся вдоль стены. Рядом с другими
зверятами ему будет здесь хорошо, и он не убежит… В коридоре никого не было,
сюда ребята редко забегали, с двух сторон были закрытые двери кабинетов:
кастелянши, врача, директора… Эта дверь как раз и открылась, и Ирина Васильевна
оказалась прямо перед ним.
— Паша! — присела перед ним на корточки Ирина Васильевна и потрепала его ласково
за плечо. — Паш, ты за подарками вернулся? Пойдём, я тебе их отдам! — Паша стоял
не шелохнувшись, уперев подбородок в грудь и прикрыв веки. — Паш, ты чего же не
отвечаешь? Там конфетки и книжка, и игрушка такая — кнопочки нажимаешь, а
человечки бегать начинают… — но Паша молчал. — Паш, пойдём, а то у меня времени
совсем мало! — Ирина Васильевна попыталась потянуть его за рукав, но Паша изо
всех силёнок упёрся ногами и стоял на месте… Оба они не знали, что делать. Ирина
Васильевна распрямилась, и в этот момент мальчишечье лицо упёрлось в её живот,
она почувствовала, как содрогается от плача маленькое тельце. Она снова присела,
двумя руками чуть отодвинула его от себя, чтобы рассмотреть лицо и снова ласково
и тихо спросила: — Ты чего, Паша? — тогда он поднял на неё полные слёз глаза и
кривящимися губами прошепелявил так, что можно было лишь догадаться:
— Пахой папка... не хочу в Америку... не хочу...
Весело и шумно катались ребята на горке. Пашка сначала дичился в стороне, но,
подхваченный Зинкой побежал рядом с ней, а когда с другой стороны оказалась
Кити, почувствовал, как легко взлетает вверх по скользскому склону. Зинка вроде
насупилась и заревновала, но такая весёлая забава чудом освобождает от всяких
мыслей. Она уселась на картонку и крепко обхватила впереди сидящего Пашку, а
сзади плюхнулась Кити, столкнула с места кортонку, на которой они разместились,
и все вместе в первый миг медленно, пока не перевалили на склон, а потом
стремительно понеслись вниз, подпрыгивая и взвизгивая на каждой кочке! Они вдруг
от этих прыжков и неровностей начинали клониться на бок, ещё крепче вцеплялись
друг в друга и всё же неожиданно рассыпались, исчезали на миг в снежной пыли и,
хохоча, останавливались, распластывались на спине и лежали, замерев.
Взрослые стояли в сторонке, переминаясь с ноги на ногу . Наверняка им тоже
хотелось смешаться с ребятами и вернуться назад, в своё детство, когда в такие
часы отступали и голод, и неустройство, и ребячьи, а порой и неребячьи, упавшие
на их головы, заботы!
Горка! Волшебное место, вечное и нестареющее! Тут все понимают друг друга, все
стремятся к одному, и все получают безмерно радости, смеха, веселья, счастья!
Том и Дороти смотрели на ребят, переглядывались и ничего не говорили — и так всё
было понятно: вот на горке катается Паша, их новый ребёнок, их сын, вместе со
своей сестрой Кити, и ничего не надо больше решать и сомневаться — это само
собой решилось, и неважно, сколько сомнений, огорчений, ступенек пришлось
преодолеть. Теперь это навсегда!..
Время шелестит листочками календаря. Этот сквозняк то сильнее, то медленнее. За
закрытыми дверями кабинетов он скукоживается и лишь из поддверной щели сочится,
чтобы согнать пыль в углы, закрутиться там и улечься. Перебили таблички, сменили
мебель, и снова загустело время в кабинетах тех же хозяев.
Неделя пролетела для гостей незаметно, подчинённая одной задаче, и они решили её
в первый же день: "Это наш сын!"
А Пашка всё так же дичился, без Зинки общаться с ними не хотел, а подарки
получал через неё, из её рук. И голос он подавал не часто… но уже что-то новое
можно было заметить в его взгляде: может быть, это было любопытство, может быть,
часто повторяемые слова мама и папа разбудили в нём какие-то гены, без которых
не бывает ни детства, ни семьи, ни счастья… Ведь существует же ген счастья?
Иначе, как объяснишь улыбку родившегося малыша, не различающего людей, но
улыбающегося той, что его произвела на свет?!
Пашка уже не убегал от Тома и Дороти, протягивал руку Кити, правда, за другую в
это время его обязательно держала Зинка, а за столом, когда обедал и ловко
орудовал ложкой, поглядывал исподтишка на проём двери, в котором маячили новые
родители. Кити сидела с ним за столом и тоже обедала, но ей было не успеть за
Пашкой и другими ребятами, да и вкус того, что она подбирала с тарелки, был
непривычным, чужим…
Она скучала по своему столу, по своей еде, по своим сестричкам, которым скоро,
когда вернётся, будет показывать фотографии и рассказывать обо всём подробно и
долго, и на вопросы отвечать, и фантазировать с ними, как это будет, когда к ним
приедет мальчик Паша, их новый брат.
Когда сопоставляешь события, удивительно многое совпадает по времени. Это
открывается неожиданно, и хорошо, если одно другому не мешает.
Письмо Трындычиха всё же в последний момент послала на другой адрес — по совету
всесведущего почтальона…и копии в разные места отправила… Как раз в те дни,
когда Вильсоны приехали на смотрины, письмо доползло до кабинета Сиротенко и
легло в отдельную папку, куда приходила неожидаемая, неофициальная,
необязательная почта — самотёк. Из этой папки конверты вынимались не часто,
когда был просвет в работе, заседаниях, комиссиях… Но именно в эти дни до него
дошла очередь. Иван Михалыч с удивлением держал перед собой тетрадочный лист в
клеточку, исписанный большими крутобокими расползающимися буквами и продавленный
с обоих сторон насквозь фиолетовой шариковой ручкой.
Он поморщился, прицепил скрепкой листок поверх конверта, с удивлением прочитал
обратный адрес — обычно его не было у таких писем: “Из местных!” — машинально
отметил он и отложил письмо в сторону. Но одна фраза так и застряла в его
голове, именно та, которая Трындычихе, как ей казалось, особенно удалась: "…
детей по дороге, как корова лепёшки, роняет…" Он повторял это снова и снова. От
этих слов исходила какая-то искрення боль и передавалась ему… "Чёрт-те что! —
думал он. — С чего бы эта малограмотная баба так печётся… Ну, кто знает, кто
ответит… Кто приучил эту, самую читающую страну, ещё и писать… доносы…"
Долго бы валялось письмо без ответа, если бы не Наталья Ивановна. Она
почувствовала, что Трындычиха не успокоится, обязательно на неё писать будет, и
рассудила, что рано или поздно письмо может попасть к Сиротенко… Почему она так
решила?.. Тогда она и набрала его номер…
Иван Михайлович никогда не рассказывал дома о своих делах, не делился с женой,
потому что не хотел беспокоить её. Да и вообще: "Меньше знаешь — меньше
скажешь!" — эту мудрость он усвоил навсегда не по своей воле в “хорошие” годы.
Обычно он так темпераментно переживал свершившееся, что вовлекал в своё
состояние всех окружающих, а под его напором они не могли не сопереживать. "Ей и
так хватает", — обычно думал он. Сам же всегда расспрашивал, даже выспрашивал,
как у неё дела в поликлинике, как теперь больные, которых она посещает, живут,
как сводят концы с концами…
Сегодня был особый случай. В памяти всплывала полузабытая история — он
неожиданно спросил:
— Мила, ты помнишь, твой отец рассказывал историю друга своего детства? Того,
что после войны разыскивал детей?
— Детей? Мескин…
— Да, да! Мескин.
— А тебе зачем вдруг?
—Я же теперь — народный избранник! — отшутился Сиротенко! Должен всё знать про
всех проживающих на территории, на которой может уместиться две с половиной
Франции!..
— Франция то одна только, милый! — ехидно перебила жена. — Где ж тебе ещё
полторы-то взять?
— Действительно… где взять… — машинально повторил Сиротенко и уселся напротив
слушать.
— Ладно, — Людмила тоже села. — Мескин потерял жену во время войны… Сарру… её
убили в гетто… а дети… Он, когда демобилизовался через несколько месяцев после
войны, стал искать концы… письма писал, в розык подавал… и обнаружил дочку… Она
в гетто не попала, потому что была в детском саду и выехала из Минска на лето…
детсадовских детей, слава Богу, успели вывезти… Немцы очень быстро наступали… А
мальчишка был совсем маленьким, как раз перед войной родился, и Сарра успела его
отдать соседям, когда её угоняли… Говорили, что он совсем не был похож ни на
отца, ни на мать: белобрысый, голубоглазый… и эта женщина, которая его взяла,
выдала за своего…
— И он у неё остался? — Сиротенко поднял на жену глаза, и она поняла, что это
нечто большее, чем простое любопытство.
— Она погибла. Это точно… её расстреляли… У них всю семью загубили немцы, кроме
её маленькой дочки… да ещё Сарриного мальчишки… Этих двух детей чудом, как
говорят, успели увести в лес… Или сама мать почувствовала, что вокруг неё кольцо
сжимается, и увела их… Не знаю… Потом, из партизанского отряда, детей
переправили на большую землю, куда-то за Урал… Ну, это обычная история...
— Да, обычная, — задумчиво протянул Сиротенко. — Представляешь, что мы говорим:
всю семью убили… дети неизвестно где… по детским домам — обычная история! Он
искал сына уже по фамилии этой девочки, его названной сестры… да? Я так помню?
— Да, он, когда узнал обо всём, догадался, что у сына должна быть другая
фамилия… И нашёл их…где-то под Читой, в детском доме… Летал туда несколько раз…
вроде, по фамилии и обстоятельствам всё сходилось… Сходилось… но всё неточно…
вроде. Какая-то украинская фамилия… я уже не помню!
— У меня тоже украинская! — жёстко перебил Сиротенко.
— Может, достаточно? — вкрадчиво спросила Людмила.
— Нет. Давай дальше! — он сжал голову ладонями у висков и опёрся локтями на
стол.
— Ну, в конце концов, он убедился или поверил, что это они… Но сына опознать не
смог… шесть лет прошло, а малышу тогда и года не было… Девочку эту, Настю,
названную сестру сына , он, понятно, и вовсе никогда не видел… А пока их искал,
нашлась дочка в Биробиджане — она сначала была в детском доме, потом её забрала
к себе семья, которая каким-то образом ещё давно знала родителей Сарры…
— Господи, какая запутанная история… — невольно воскликнул Сиротенко.
— Да, уж… можно подумать… — Мила осеклась, сглотнула комок в горле и помолчала.
— Он был большой такой мужчина… лётчик боевой… все четыре года воевал… Мой отец
говорил — после всех этих поисков, что его не узнать было: он усох… вроде меньше
ростом стал… от переживаний…
— А ты его видела?
— Конечно! Но только уже позже, не в те годы… Я же не могу этого помнить…
— Слушай, Мила, а почему ты с его детьми не поддерживаешь отношения, если отцы
дружили... Он же их всех собрал вместе… да?
— Как не поддерживаю… хотя, конечно, могла бы быть более внимательной. Давай по
порядку… сам поймёшь… Не сбивай! Всё оказалось не так просто… Рашель — Рахиль,
его настоящая дочка, — тех людей, что её забрали из детдома, стала сразу звать
мама и папа… а когда объявился настоящий отец, началась ещё большая трагедия,
чем была — у них два сына погибло на фронте… теперь предстояло отдать Рахиль…
Дядя Эдя был в отчаянии… понимал, что это стариков доконает… они были старше
его… А оставить дочку он, конечно, не мог… да и к тому же, она стала вылитая
мать… Ей уже около одиннадцати было… или десять только…
— Ты так хорошо всё знаешь, будто это с тобой случилось!
— Я это столько раз всё слышала… и дядю Эдю очень любила… Он был замечательный…
и тётя Буся…
— А она кто?
— Дядя Эдя на ней женился после войны. У неё был сын Петя, а муж погиб… А когда
дядя Эдя за ней ухаживал… или предложил жениться… не помню уже, то рассказал всю
историю с детьми… потому что он не знал, что делать, и скрывать не мог, и взять
никого в дом пока сам не женится тоже не мог… ну, кто бы с такой оравой был…
представляешь: сразу четверо!
— Послушай, эта история — роман писать!
— Скорее трагедию… Он, когда всё рассказал тёте Бусе, думал, что она откажется
замуж выходить… Любая бы ещё подумала крепко, но она была мудрая женщина… и,
наверное, его очень любила… он замечательный был… Я его помню ещё в лётческой
форме, без погон только, грудь в орденах… Красавец! Это он в в день Победы так
одевался… а вообще-то он учительствовал…
— Послушай, а кто её отец, тёти Буси твоей? Не знаешь?
— Это совсем отдельная история! У неё на свете осталась одна только тётка, когда
родителей репрессировали. Эта тётка её воспитала с младенчества… Буся звала её
не мама — "тётя" и без имени, а на самом деле, она, как оказалось, вовсе не
родственница по крови… не помню уже, как тётя Буся у неё совсем ребёнком
оказалась… Эта Клавдия Ивановна жила в Москве… со своим Моисеем… они так и не
были расписаны… Ну, я сейчас запутаюсь… потом, не перебивай!
— Как можно запомнить родственников! Не понимаю! Мне вот повезло: запоминать
некого!
— Иван, давай прекратим этот разговор… я уже чувствую, чем он закончится… будешь
дымить, как котельная, и глотать валидол… Скажи мне просто, что случилось? Ты
всегда всё в себе носишь… это вредно, я, как врач, тебе заявляю…
— Милый доктор! Как говаривали чеховские герои, милый мой доктор, ничего не
случилось… просто мне так хорошо, что я могу тебя слушать, милый мой доктор…
Рассказывай дальше, я не буду задавать вопросов!
— Ага… так вот… она всё устроила… Она была, как называл её дядя Эдя, — Оазис…
Знаешь, оазис в этой жизни… ты понимаешь… Она сначала поехала к Рахильке, дочке
дяди Эди, и к старикам и сказала, что забирать у них девочку не будет, но она,
Рахилька должна их называть бабушка и дедушка… Это как раз по возрасту
подходило… хотя дядя Эдя был старше Буси… У неё была, как тогда говорили,
“жилплощадь” в Москве, и они туда переехали жить вчетвером…
— Постой, постой, откуда вчетвером? Как?
— Очень просто: Дядя Эдя, его дочь Рахилька, тётя Буся и её сын Петя!
— Ого!
— А потом они ещё забрали Гришу и Настю…
— Фантастика! Погоди, но они же обещали не забирать девочку у стариков!
— Они забрали — и не забрали… Так получилось, что на несколько месяцев разлучили
из-за того, что детям в школу надо было 1 сентября…
— И что?
— Ну, тётя Буся детей отправила в школу — уже всех четверых! А стариков потом
очень быстро в Москву обменяла! Они в это время как раз на пенсию вышли…
Квартиру их в тьмутаракани на малюсенькую комнату в Москве, в пяти минутах
пешком от дома, где они жили...
— Потрясающе! — Сиротенко даже вскочил со стула. — Просто потрясающе! Энергичная
тётя Буся!..
— Да уж! — подтвердила Людмила. — Но эта тётя Буся родила ещё Хаима… Ефима… это
их общий с дядей Эдей сын!.. И всех вывезла в Израиль… как только дверь
приоткрыли… а Клавдия Ивановна и Моисей остались… Ему под девяносто было… он
ехать отказался... Я им в Израиль писать в те годы не могла, и они не хотели —
боялись мне навредить… Вот и всё.
— Теперь я точно спать не буду… Как время стирает детали… И они все живы? —
Сиротенко смотрел на фотографию на стене, где они своей семьёй сняты вчетвером:
он, Людмила и два сына, которые не захотели жить здесь.
— Дядя Эдя умер… — Людмила помедлила, хотела ещё что-то добавить, но понурилась
и замолчала.
— Еврейские семьи всегда большими были… — Сиротенко перевёл взгляд на жену. — А
мы вдвоём…
— Не надо навязываться детям! — она тоже перевела взгляд на портрет. — У нас
хорошие мальчики… всё, как ты мечтал… врачами стали… Но у каждого своя жизнь…
— Русские семьи тоже большими были… — продолжил Сиротенко. — Но раньше — до
разора и войны… До войны и разора… — повторил он и замкнулся.
Письмо Трындычихи не давало покоя Сиротенко. Он не с чужих слов знал, как в
хорошие годы насильно разлучали детей репрессированных родителей, знал, как это
больно, бесчеловечно, такие были и в детском доме, где он рос. То, что
предлагала эта "корова", как он её окрестил, хотя никогда не видел, — разделить
брата и сестру, тем более близнецов, бесило его и требовало действия.
"Гнать надо в шею эту сволочь подальше от детей! — он сжимал челюсти и желваки
бродили по его скулам. — Неужели она не видит сколько горя и боли вокруг?!
Женщина!.. Хотя, теперь эмансипация — раздрызг во все стороны…" Но невольно
выплывавшая в памяти фраза из её письма, направляла его мысли совсем в другую
сторону. "Наверняка она что-то знает — не стала бы просто так писать: "… детей
по дороге, как корова лепёшки, роняет…". А вдруг, правда? Надо проверить?
Обязательно проверить! Да не только этих близнецов! Всех, кого отдаём, проверять
надо… на всякий случай… И её, "коровищу" эту, заодно, да прежде всего… кто
такая… ради чего суетится…"
Паша после отъезда американцев, стал совсем грустным. Зинка тормошила его:
— Ты скучаешь, Паш? — Паша молчал. — Я тоже скучаю. По мамке… Знаешь, Паш, если
ты скучаешь, значит ты их любишь…
— Я не знаю… — вяло откликался Паша.
— А девчонка ничего, — продолжала Зинка и внимательно смотрела на своего друга,
— не фикстула…
— Я не знаю… — одно и то же мямлил Паша.
— А она тебе будет сестра… — Паша смотрел на Зинку, ничего не произнося. — А раз
сестра, ты её тоже должен любить… Ты не скучай… они уехали, чтобы тебе игрушек
накупить и приготовить обед… — Паша вдруг оживился:
— Мне уже два раза игрушки приснились.
— Вот видишь! — обрадовалась Зинка… — И ещё велосипед и обед — картошка жаренная
с салом и мороженое… Много…
— Мороженое? — недоверчиво перебил Паша.
— Да. Очень большое в такой красивой миске с розой.
— В миске?
— Паш, ты что мне не веришь? Я в кино сама видела — в миске… И мальчишка там ел,
и у него усы выросли! — Зинка громко засмеялась и замолчала.
— А потом?
— Что потом? — переспросила Зинка.
— Усы потом, что?
— Усы… он их рукавом вытер, а отец ему оплеуху… — Зинка показала, как всё было.
— Пашка даже отшатнулся и сжал губы.
— Но это же другой отец был! А твой добрый! Вот увидишь…
— Откуда ты знаешь?
— Ты что, мне не веришь? — возмутилась Зинка. — Которые детей забирают, все
добрые, а то бы они не забирали, понял? А если не веришь, я вообще уйду…
— Верю! Я верю… — совершенно упавшим голосом сказал Пашка. — Когда они приедут?
— Зинка задумалась.
— Вот купят игрушки, кровать, ещё велосипед… Штаны не надо, штаны тебе здесь
дадут… потом приготовят обед, сходят за мороженым и приедут… Ну, ещё не скоро! —
успокоила она Пашку.
— Я не хочу ехать, — тихо выдавил Пашка.
— Как? — Зинка так удивилась, что даже села на пол.
— А что я там один буду делать?
— Как один? Сестра Катя… и мама с папой…
— Они же не настоящие все… понимаешь… — Пашка тихо заплакал.
— Я бы тоже боялась… — шопотом призналась Зинка. — Но всё равно бы поехала…
Зинка оказалась девчонкой практичной и прозорливой. Всё на самом деле
происходило, как она придумала. Хотя до отъезда Паши было ещё далеко, и даже
подтверждение из агентства, что с документами всё в порядке, не пришло, Вилсоны
целую субботу во всю готовились к приезду нового сына и брата.
Сначала спорили, в какой комнате ему будет лучше, а когда договорились, —
таскали шкафы, диваны, кровати… Том перебрался со своим компьютером и деловыми
папками вниз, в бейзмент, а для Паши купили новую мебель: и на чём спать, и
стол, и полки, и шведскую стенку — выбирали все вместе и опять спорили! Родители
совсем растерялись от непрерывных вопросов и обращений: "Маами! Даади!" Девчачьи
голоса не смолкали, спрашивали все трое, а когда родители совсем уж изнемогали,
Китти, только что сама сгоравшая от любопытства, выступала с родительской
стороны: отвечала, как могла, сёстрам — она же видела Пашу и играла с ним, и на
снежной горке каталась… Но дело было совсем в другом: “А что он любит? А пиццу
он любит? А Скубби? А какого цвета у него глаза? А волосы? А он в штанах, или в
шортах?..” Вопросы сыпались вперемешку и, чем больше было ответов, тем больше
новых невыясненных вещей оказывалось, и даже маленькая Лизи тоже пыталась что-то
своё пролепетать, хотя вовсе не понимала, о чём речь… Но к вечеру, когда все
смертельно устали, а Лизи и вовсе заснула, мебель стояла в бывшем отцовском
кабинете… джостики мирно дремали на коврике перед телевизором, большой медведь
пристроился на полке в углу и обнимал коричневыми лапами усевшихся у него на
коленях мартышек, собак и ещё каких-то плюшевых зверей непонятных пород…
Когда дом затих в ночной темноте, и первый сладкий сон сморил всех его
обитателей, Том внезапно пробудился, ещё не понимая отчего! Он прислушался и
уловил лёгкое поскрипывание лестницы. Казалось, что кто-то старается спуститься
или подняться по ней так, чтобы она не откликнулась на шаги. Он тоже осторожно,
на цыпочках, двинулся к двери и сквозь неширокую щель, из которой тянуло снизу
свежим крепким воздухом, пытался разглядеть что-нибудь в темноте: “Не чужой ли
решил проверить их дом?” Том затаил дыхание, но скрипа уже не было слышно… он
хотел было вернуться, решив, что это просто почудилось ему спросонок, но что-то
подтолкнуло его вперёд, к площадке, где начинался спуск вниз. Он видел тускло
сверкавший в отраженном оконном свете лак на ступенях, чёрную ленту перил и… тут
ему послышался шорох внизу, в той комнате, что они готовили весь день. Через две
ступени, чтобы производить меньше скрипа, Том спустился, подошёл к приоткрытой
двери и увидел, как Мэри стоит в светлой ночной пижамке и устраивает на подушке
застеленной пашиной кровати своего любимца Джоя. Он замер от удивления: “Не
может быть!”
Сначала, когда ещё безымянный плюшевый зверь появился в доме на день рождения
Мэри, все решили, что это щенок. Девочка, так радовалась ему, что окрестили его
Джоем, и он буквально стал её неразлучным другом. Ни днём, ни ночью они не
расставались… через год после этого случилась беда. Такие небывалые дожди
обрушились на весь штат, что улицы покрылись водой, и через двор, где они жили,
нёсся мутный поток с глиной, ветками, мусором, перевёрнутыми баками, вёдрами...
Как попал Джой в эту бурную реку, никто не мог понять, но Мэри увидела его
именно в тот момент, когда вода несла её Джоя мимо окна, из которого она
наблюдала ставшую незнакомой улицу. Даже на крик у неё не хватило времени — она
подскочила к двери, распахнула её и бросилась спасать друга! Вода мгновенно
сшибла девочку с ног, завертела, ударила о забор и… она начала тонуть! Прямо тут
же, около своего дома! Всё это произошло так быстро, что пока крик Кити долетел
до Дороти, Мэри уже скрылась под водой! Мать ринулась в воду, крича: “Где? Где?”
И через несколько секунд выхватила дочь, застрявшую в кустах и уже успевшую
изрядно нахлебаться, но выплёскивавшую наружу вместе с водой лишь одно слово:
"Джой! Джой! Джой!.." Дороти пришлось вторично бросаться в поток и искать Джоя,
который к счастью тоже застрял недалеко, в тех же, окаймлявших двор, кустах…
Когда друзья наконец соединились и, переодетая во всё сухое, Мэри сидела рядом с
совершенно промокшим Джоем, стало ясно, что теперь никто и никогда не сможет
определить, какой он породы и какого цвета… но это нисколько не огорчало
владелицу… она ещё больше полюбила его с этого дня и теперь ни на секунду не
отпускала от себя, а чтобы он не потерялся, надела на него вокруг туловища
настоящие шлейки для маленькой собачки и прицепила поводок, в петлю которого на
конце вдела свою руку. Теперь связывавший их чуткий сигнал всегда был у неё на
сгибе у локтя…
Вот этого, неизвестной породы зверя, Мэри принесла в комнату своего будущего
брата и устраивала на подушке… петлю поводка она надела на торчащий в изголовье
кровати шар, чтобы Джой, не дай Бог, опять не попал в какую-то неприятность…
Том замер, слёзы наполняли его глаза, и вся картина расплывалась перед ним, а
когда они скапывали, он опять ясно видел, что Джой никак не соглашается остаться
здесь в одиночестве, всё время скатывается с возвышения подушки, и Мэри что-то
шепчет ему и снова устраивает поудобнее…
Когда, наконец, пёс все-таки решил остаться, Мэри поцеловала его и стала
пятиться к двери, помахивая рукой. Том спешно отступил назад и, понимая, что не
успевает незамеченным взбежать по скрипучей лестнице, сжался в комок и юркнул
под неё…
Наутро всем любопытно было ещё раз поглядеть на вчерашнюю работу, и все,
заглядывая в дверь, с удивлением обнаруживали на постели Джоя, который, видимо,
не столько отдыхал на этой кровати, сколько стерёг её и ожидал хозяйку с
нетерпением… Он же ничего не знал про Пашу! Все удивлялись, что Мэри с ним
разлучилась, но никто ничего не говорил — всем стало всё понятно… И лишь
маленькая Лизи прокомментировала обстановку: “А это Джой! Я его узнала! Он тут
будет жить теперь, да?”
Чёрт его знает, почему Сиротенко поверил этому безграмотному письму, но оно
вселило в него беспокойство и неожиданно вернуло к годам, проведенным в детском
доме… Как ему тогда хотелось, чтобы у него кто-нибудь родной был рядом! "Сестра,
брат!.. — вспоминал он. — Всё равно… лучше, если старший… Когда близнецов Геку и
Жеку Смирновых разлучили, что было? Гека удрал, через неделю… его поймали,
вернули… он через две недели опять убежал… его опять поймали и, когда привезли
обратно в детский дом, он сказал, что он Жека… “А где Гека? Куда брата дели?” —
требовал предъявить! Позвонили в тот дом, куда брата увезли, а там подтвердили,
что Жека, действительно убежал, и никто не знал теперь, кого на самом деле
поймали. Различить их никто не мог! Тогда этому, пойманному, пообещали, что
когда второго изловят, его к нему привезут, но этот Гека-Жека не поверил и снова
удрал, как ни сторожили… теперь ни в одном детском доме, ни в другом не было ни
Геки, ни Жеки… — Сиротенко улыбнулся и вспомнил, как они обожрались макаронов,
которые спёрли на станции из магазинной коптёрки у раззявы сторожа — мешок
целый. Ели эти толстые коричневые трубки всухомятку, не варёными… и, кто
участвовал в этом деле, через два часа залегли с животами. Все вокруг
испугались, что у них заворот кишок может произойти, и давай их поить
слабительным! Но Гека, когда наелся, решил попромышлять ещё. Где его носило? А
Жека в этом деле не участвовал… сидел дома — они совсем разные были внутри, но
лица — копия! Точная! Вот и влили эту глауберову соль Жеке, который за
макаронами не ходил. Он орал, конечно, доказывал, что он другой, сопротивлялся —
не помогло! Так и сидел на толчке за своего брата, да к тому же голодный! Где
они сейчас… Одному ножом по щеке досталось потом… кажется, Жеке… так они
специально длинные волосы отрастили оба, чтобы шрам закрыть… вдвоём всегда
прожить легче…
Диагноз диагнозом, а кто-то близкий для любого из детдомовских — это шанс
выжить… всегда одно и тоже — в любое время… Мать с отцом у них судьба отняла…
так, может, мы им поможем хоть какую-то родную кровь найти!”
Он долго думал, дымя без перерыва, и на самом деле, никак не мог
сосредоточиться. Мысль перескакивала с предмета на предмет, зацепляла совсем
далёкое и вдруг переключалась. “А кто теперь моим родной? Мишке с Николаем? Чего
им дома не сиделось? Дождаться бы внуков… А эта… кому внуков нарожала? Есть у
неё мать, отец? Кучина? Кучина… — он посмотрел на остаток сигареты в руке —
пальцам было горячо — ткнул его в полную пепельницу и вдруг неожиданно решил: —
Раскопаю это дело и брошу курить! Вот-те крест — брошу!”
Почему-то от этого стало неожиданно легко на душе и совершенно понятно, что
делать. Самому. Никому ничего не поручать. “Ты же врач, вот и действуй, как
врач!” — посоветовал он самому себе и взялся за телефон.
Сначала всё получалось так просто и логично: из детского дома прислали выписку
на Кучиных Василия и Нину, и копию характеристики на Сомову Галину Петровну…
нигде ничего необычного… У воспитательницы нет специального образования… Как она
на работу попала? Ясно как: людей не хватает… А у малышей номер роддома,
отклонения в развитии, диагноз…
“Номер роддома. Зачем мне номер роддома? Зачем?” Из роддома тут же сообщили, что
Кучина Нина Сергеевна, второродящая… “Вот так так! — Сиротенко почувствовал
какой-то азарт. Значит, у неё до этих ребят, ещё кто-то мог быть! Но по
документам выходило, что по молодости вряд ли она могла родить кого-то до них… —
Запутанная история… Может, сама эта “корова” что-то точно знает, — и он снова
повторил её застрявшую в голове фразу… — А может, Кучина она по мужу?" В памяти
всплыло, как отец однажды сказал ему: “Род наш не прервётся, Ванька, мы в этих
краях издавна, а фамилию ты не меняй, слышь?! Не тянись обратно к нашей...
может, потом, когда-нибудь… Ты что, думаешь времена эти хорошие навсегда
кончились, раз товарищ Сталин умер? Не верь! Запросто всё опять обернуться
может... не верь этой власти… а вернутся — потянет тебя фамилия моя в яму…
Сиротенко, так Сиротенко! Не в этом дело!..” Будто сейчас всё было: отец,
сидящий на проваленном топчане и тяжко отдыхивающийся после очередного приступа
кашля. Его впалые щёки то проваливались, то надувались до половины, их
коричневая морщинистая кожа резко светлела, растягиваясь и становясь гладкой,
отчего лицо приобретало совсем другое, клоунское выражение — глаза утопали в
глазницах, и тонкий нос проталкивался между двух шаров…
Через месяц звонков, писем, разговоров что-то стало проясняться, правда, плохо
сходились даты, потому что эта Кучина не раз теряла паспорт, нигде не числилась
и где была, никто не знал, а расписывалась, очевидно, так далеко от этих краёв,
что расспросить кого-нибудь лично не представлялось возможным... Да и кому
теперь было до этого дело! “Раньше бы… — с сожалением подумал Сиротенко и вдруг
ужаснулся этой мысли: — Раньше! Что со мной? Неужели это сладкое бремя власти и
меня раздавило?! Раньше — это когда? Когда был сталинский порядок? Порядок,
который меня в Сиротенко превратил?!! Да... бросишь тут курить… тут сопьёшься,
пожалуй! Вот что!..”
А месяца через два, когда ему показалось, что он докопался до дна, вдруг ночью,
ухмыляясь и изогнувшись над ним, так чтобы упереться носом в его лицо,
выпростался из тьмы вопрос: “А может, она сейчас ещё кого-нибудь наплодила?”
И первым делом утром, дождавшись “приличного” времени, он позвонил Волосковой:
"Всех, всех проверяй теперь, Ирина Васильевна, — сказал он в конце разговора. —
А без этой проверки ни одного дела не подпишу!"
Посреди долгой зимы случился дождь. Не дождишко из пролетавшей тучки, а
настоящий, обильный, обложной. Он заштриховал серый день, как опытный ретушер.
Сугробы осели, накатанные колеи превратились в ручьи с ледяными берегами, дороги
осклизли — ни пройти, ни проехать.
Ирина Васильевна стояла у окна и смотрела сквозь туманный воздух на почерневшие
продрогшие веточки, с которых срывались капельки набегавшей влаги… "Зиме —
шубку, весне — юбку" — почему-то неотвязно вертелось у неё в голове… "Зиме —
шубку, весне —любку…"
"Зачем Сиротенко затеял какой-то поиск? У Паши все бумаги чистые! Мать от
ребёнка отказалась, и письмо есть, отца вообще ищи-свищи — всё равно найти
невозможно… Да, честно сказать, и, слава Богу… всё равно кроме неприятностей
ничего не получится… объявится — начнёт вымогать да кобениться… А так: круглый
сирота, диагноз какой надо, по инстанциям всё подписано, все решения, согласие
усыновителей, все их бумаги — всё в порядке… Мальчишка бы уехал, а потом делай,
что хочешь… Есть у него братья, сёстры, нет ли… какая разница?.. Где их искать?
Зачем? Ни они его не знают, ни он их… До него она родить никого не могла — сама
под стол пешком ходила… Если уж кто найдётся, то младше… а найтись вполне может…
Только когда?.. Кто знает, где её носило, где искать по всей стране… да на это ж
годы уйти могут… Найдут — не найдут… Глупо как-то! "Пока не буду уверен, что у
него нет ни братьев, ни сестёр, не подпишу…" Сиротенко, Сиротенко… Стелет-то
мягко, а если задержит дело, не отступится?" Он нравился ей, она говорила:
"Мужчина!" Для неё это было не пустое слово… когда с мужем расходилась, самое
обидное, что ему бросила: "Какой же ты мужчина, если женщину обижать можешь?"
Сиротенко — мужчина! В нём какая-то самость есть… "И что он про свою фамилию
намекал?.. Да, ладно, чего беспокоиться?! Всё нормально будет! Собрались все
бумаги, и он подпишет!.."
Теперь выходило так, что на нём все концы сошлись. “И на кой чёрт мне это надо!
Работал бы себе и работал, и не лез бы никуда, и не пел бы опять чужие песни! А
почему чужие? Когда мальчишкой был, терпел — деться некуда, а теперь-то сам себе
забот напридумывал!” Обычные житейские мысли лезли в голову, толпясь и сбивая
друг друга. Что ребята уже выросли, и не нужна им помощь, что дай Бог, так век
дожить, чтобы и у них не надо было одалживаться, что на жизнь хватает и зачем
тогда лезть наверх непонятно... Он всегда обращался к своей палочке-выручалочке:
слову, которое дал себе, и всегда боялся, что однажды сфальшивит, совсем
чуть-чуть покривит душой, чтобы прикрыться своей клятвой. Он боялся этого больше
всего на свете, потому что верил только одному человеку — Ивану Сиротенко.
Случись ему отступить, — зачем жить тогда… а чем выше забираешься, тем труднее
оставаться самим собой… он давно это понял.
Что близнецов он разлучить не даст — это ясно, но если у них есть старшая
сестра, о которой они и не подозревают… Можно её оторвать от них? Да они же не
подозревают, так что значит: оторвать?! Да не возникни эта корова, никто бы ухом
не повёл! Вот и Пашка тоже — уехал бы парень за океан и вырос там в любви и
ласке... никто бы не ворохнулся! А так что? Ждать пока проверят? Вдруг у него
кто-то есть?! Не отдавать сейчас парня? Был уже такой случай… отказались от
мальчишки, а он уже весь превратился в сплошное ожидание, он стремился к ним, к
своим новым маме-папе… Даже, когда они не пришли, не поверил… и полетел… полетел
на своей вере, но она не смогла удержать его так, чтобы он не разбился о землю…
Проклиная всё на свете, а больше всего себя, он тащился по улице, специально
шаркая ногами, чтобы не упасть на скользком, и не понял сам, как оказался у
шумящего и парящего кирпичного домика, присыпанного сугробами снега, посреди
большого благоустроенного двора. Он всмотрелся, постоял, усмехаясь, несколько
минут перед дверью и потянул за ручку...
В жарком помещении, заполненном тремя горизонтальным котлами, гудело, шипело,
пахло маслом, горячим сухим железом и влажным свежим паром, который
высвистывался тоненькой струйкой из каких-то трубочек… В дальнем углу в
распахнутой рубахе сидел на стуле, нога на ногу, человек с очками, задранными на
темя. Он обернулся на стук притянутой пружиной двери и пытался разглядеть
входящего. Сиротенко пошарил взглядом, глаза привыкли к сумраку, и тогда он
медленно, и почему-то боком, направился к столу по широкому проходу вдоль окна и
труб, звонко потрескивающих и обдающих жаром…
— Здорово, Федор! — хрипло сказал он, протягивая руку.
— Ё-ё-ё! — почти пропел сидящий, не вставая и не шевелясь.
— Сколько лет, сколько зим!.. — не прокашлявшись продолжил Сиротенко. —
Жарковато, однако… — повисла пауза. Только гудели топки котлов и шипел пар.
— А я всё никак отогреться не могу! Ха-ха-ха! — булькая, засмеялся Фёдор. —
Никак! В детдоме-то мы вместе намёрзлись, так ты, видать, потом отогрелся, а я
всю жисть всё мёрзну, мёрзну — то в зоне, то в тайге этой грёбаной… — он
замолчал и стал искать сигареты. — Ты чё пришёл-то? По делу или так, навестить …
вдруг? — усмехнулся он, выпуская первую затяжку.
— А не знаю, — мрачно ответил Сиротенко. — Шёл, потом смотрю: стою перед дверью
этой, — он мотнул головой назад… Фёдор оторвался от спинки стула, пригнул, чуть
повернув на бок, голову и пристально уставился в лицо стоящего.
— Ага! — он будто что-то разглядел. — Садись! — приказно произнёс он и указал
глазами на ещё один стул с рваным сидением, из которого торчали выплески грязной
ваты. — Не замараешься?
— Да хрен с ним! — махнул рукой Сиротенко. Фёдор посмотрел на круглые часы на
стене и, как о давно обещанном, напомнил:
— Счас выпьем!..
— А тут можно? — наивно спросил Сидоренко.
— Можно! — криво усмехнулся Фёдор. — В России выпить всегда и везде можно… Не
боись, эта хрень не взорвётся… тут автоматика-къебернетика… и сменщик через
двадцать минут заступит… Вахту сдал… вахту принял… Ты, Вань, чтой-то растроенный
какой-то, как полинялый… нет?
— Есть маленько! — откликнулся Сиротенко, стащил с себя наполовину пальто, но
вдруг опомнился.
— Слышь, Фёдор, я пойду тогда возьму чего-нибудь…
— Не надо! — остановил его Фёдор. — Всё есть! Спокойничек!.. Как в кино,
помнишь? “Будь спокойничек!” — он встал со стула, и Сиротенко профессионально
отметил, что у него спина ссутулилась, в пояснице он не разгибается и… “Чёрт!” —
оборвал он свои диагнозы внутренним голосом... — Ты, Вань, не просто так пришёл…
ты не обижайся…. Ты мне тогда так помог… выручил, можно сказать… я никогда не
забуду… Ну… теперь так жизнь поменялась… а когда-то, ох! Хорошо мы жили! Да если
бы такую закусь тогда достали, Вань, вспомни, так это ж какой бы праздник был
ба!
— Ты Герпеля помнишь? — неожиданно для самого себя спросил Сиротенко. Бутылка,
занесенная над над стаканом, застыла, и Фёдор, покачав вниз-вверх головой,
произнёс как-то торжественно и тихо:
— Из наших Абрама Матвеича все помнят…
— Снится он мне стал чего-то…
— А он давно помер! — с удивлением сказал Фёдор. — С чего бы вдруг?
— Не знаю! Тут такая, понимаешь, ситуация получилась запутанная… — он посмотрел
на Фёдора, как бы оценивая: стоит ли говорить, и начал всё по-порядку… Он
замолкал только на несколько секунд, когда они чокались и выпивали…
— Я тебе, знаешь, Вань, что скажу, — прервал молчание Фёдор, когда Сиротенко
закончил и сидел, понурившись. — В России, чтоб ты знал, всё всегда поперёк
выходит… как только начинается гладко — жди беды, а когда поперёк — нормально!
—Это ты что-ли такой закон вывел?
— Да хоть бы я! На ком всё держится? На интузьястаххх! Понял… — они уже оба
порядком захмелели, говорить стало легко и просто… — И никаких исключений! Вот
возьми примеры! Хоть тебя! На хрена тебе всё это надо? Берут мальчишку — вперёд!
Небось и деньжат тебе подкинут за содействие! Да ты не тушуйся, в России всё
так! Не подмажешь — не поедешь! А ты вот мучаешься, совесть свою пробуждаешь,
как там у Пушкина? Чем он любезен там народу? Ты знаешь, я сам стихи писать
стал! Вот на хрена, спрашивается? Хошь, почитаю!.. Не, ну это потом…
— А почему Герпель снится? — встрепенулся Сиротенко.
— Вот это классный вопрос! Это правда… он хоть и еврей, конечно, но всё равно
русский, потому что тоже был интузьяссс!.. Ну, без этого никак, Вань, ты
пойми!.. Эти жа держиморды, которые руководят, они же не могут… а ты можешь…
Если пацану отец нашёлся, Вань… ты вспомни, вспомни! Ты за этим что ли ко мне
пришёл? Спросить? Я теперь догадался! Да ты вспомни, если ба тебе или мне, или
хоть кому из наших сказали, что его отец заберёт, да хоть какой, хоть пьянь,
навроде меня! Ты что, Вань, забыл? Как ба мы побежали?! А так что?
— Что? — Сиротенко тяжело облокотился на стол и придвинул своё лицо близко к
фёдоровому. — Что, Федь?
— Вань... ты из нас один выбился… только… а другие… сам знаешь… Кого нет уж на
свете, и не знает никто, где лежат они, а другие, если живы… через такие муки
прошли из детдома необученными и голыми выпущенные… Нельзя быть в России
сиротой, Вань! Не приведи Господь!.. Не мучайся ты... И Герпель ба не мучался… а
он бы и тех двоих-то близнецов твоих тоже не разъединял, и тожа отправил
отсюдова, куда подальше… Пускай хоть в Америке твоей, а людьми станут и
по-человечески жить будут, — Сиротенко выслушал, тяжело вздохнул и понурился. —
Ты знаешь, — Фёдор ритмично замахал указательным пальцем перед лицом товарища, —
что я тебе скажу? Правда, Ванька, я только одному вот завидую тебе…
— Чего мне завидовать? — возразил Сиротенко.
— А тово, что ты можешь доброе кому-то сделать… а я нет… Только озлобился я так
за все годы! И не выбился… ни добра от меня, ни… ни хрена… пыль одна… и вонь…
В храме было гулко и прохладно. Том машинально вставал, опускался на колени на
бархатную подставку и снова садился на скамью, но взгляд его неизменно тянулся
вверх к стрельчатым окнам, светящимся синим и красным… “Так же соединяет Он
людей на земле, как эти цвета в розетке… — звучащие слова, которые он привычно
повторял со всеми, ничуть не мешали его мысли. Тяжёлая тревога угнетала Тома
последние дни, и он пришёл молиться в надежде на облегчение, разрешение
непонятного чувства. Никакой анализ: “Отчего это?”, никакие самоуговоры: “Всё
будет хорошо!” не помогали. Он с увлекающей надеждой пошёл в храм, но облегчение
не спускалось к нему с небес... Он никак не мог сосредоточиться на молитве, как
обычно произносил затверженные с детства слова, и думал о совсем другом...
"Какой силой воображения надо обладать, какие программы заложить в каждого,
чтобы соединять и разводить людей, какие алгоритмы устанавливают порядок в мире?
Вон в той мозаике одно стёклышко повернуто случайной чужой силой под другим
углом, и весь рисунок сбивается, и взгляд цепляется именно за эту шероховатость
несовершенства, где свет идёт не по принуждённому закону, а вольно пробивается в
щель совсем другим цветом, и тоненький жёлтый лучик чётко и стремительно
обозначает свою дорогу пыльным светом и ударяется в гладкую стену напротив...
вон он дрожит и отвлекает взгляд, и нарушает гармонию… — Том чувствовал, как сам
увлекается этим лучиком и вроде бы видит себя со стороны… — Никогда прежде я не
рассуждал так возвышенно! — он внутренене усмехнулся. — Что со мной творится
вдруг, что вообще происходит со мной? Может быть, я, как этот лучик, пробился в
совершенно случайное отверстие, пошёл не как все и не со всеми? Но разве плохое
дело я начал? Разве это не угодно Ему? Разве не искренне и не с открытым сердцем
я жду этого малыша в своём доме, и разве он уже не пришёл в него? И может быть,
одним несчастным станет меньше на свете? Откуда эта тревога? Почему все
клеточки, составлявшие мою жизнь, сдвинулись? Может быть, потому что я эгоист и
по своему капризу строю свою жизнь и заставляю других подчиняться и тоже
перестраиваться? Ну, кто ответит? Как уйти от этого? Вот говорят “сердечный
трепет”, а я его чувствую просто физически: что-то колеблется вот тут…"
“Agnus Dei, qui tollis…” — заполнило всё пространство до самых вершин сходящихся
стен… Звук упруго выливался из горловин матово блестящих труб, отталкивался от
каждого выступа, от светящихся витражей и наполнялся цветными глубокими
обертонами. Не было ни уголка, ни трещинки, в которые бы он не проник, он
вливался в каждого со вдохом и возвращался с выдохом: “Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi miserere nobis.”
Том почувствовал сначала невероятную тяжесть, которая по мере движения плавного
всеохватного звука становилась невыносимой, непреодолимой, и вдруг его подняла
на своём гребне мелодия, он ощутил слёзы, катящиеся из глаз и уносящие с собой
всё, — тревогу, тяжесть, неосознанный страх, боязнь за близких, сомнения и
смущение… и на месте уходящего оказывалась не пустота, а невероятная радостная
лёгкость, светящаяся и беспредельная... “Агнец божий!” Значит, всё правильно,
значит, все мы приносим жертву не напрасно, приобретаем, отдавая! Значит, всё
будет хорошо! Всё хорошо будет!” Он впервые за время мессы перевёл взгляд на
Дороти и своих девочек и понял, что они чувствуют то же самое... и им, как ему,
необходима была эта молитва и очищение, и они стали ближе друг другу...
Пашка возился у шкафчика в раздевалке. Он хранил тут все свои богатства в узкой
полочке под обувью. Туда едва пролезала его ладошка. Сначала он вытащил открытку
с медведем, держащимся одной лапкой за гроздь воздушных шариков: земли под ним
не было видно, но понятно, что улыбающийся толстячок висит в воздухе. Пашка
получил её в подарок на день рождения вместе с прозрачным пакетом, в котором
лежали конфеты и печенье… Всё это давно съелось… а медвежонок всё парил и
улыбался, и улыбался… углы картонного квадратика закруглились, обтрепались, и
шарики стали не такими яркими, но они всё же держали Мишку… Мишаньку… Мишика…
Пашка его очень любил и берёг… сколько уж раз ему предлагали за этого Мишку и
конфету, и компот… он не соглашался… "М-г, м-г", — происносил он закрытым ртом и
мотал головой из стороны в сторону…
Потом он вытащил голубую пластмассовую машинку. У неё не было колёс. Вообще.
Зато сквозь затянутое прозрачное окошко виделся руль… теперь, если представить,
что Мишка привязал шарики к забору, а сам сел за руль и поехал, то можно с ним
прокатиться. Не поедет же его Мишка без него — Пашки! Это же его Мишка! А раз у
машинки нет колёс — она вездеход и запросто проползёт по любому снегу, где даже
самосвал застрянет и забуксует… Можно прокатиться здесь, во дворе, c горки, и
Сашка не будет дразнить его "раззява" и замахиваться, потому что он не успел
убраться с дороги в самом низу… А можно — прямо на Северный полюс… и никто его
не догонит… можно с Зинкой — тогда совсем не страшно…
После этого из самого дальнего угла он вытащил старую смятую гайку, но она была
жёлтая… наверняка золотая, и её можно было расплавить и получить много денег… а
на эти деньги… Тут Пашкино воображение заходило в тупик, потому что он не знал,
что сколько стоит… а кучу денег представлял в виде огромной сверкавшей горы, из
которой монеты надо накапывать лопатой и насыпать в мешок…
И сколько мороженого можно купить на эти деньги! Или лучше жвачки... а потом
выдувать ртом пузыри, чтобы они лопались… только нельзя, чтобы мамы видели, а то
отберут и самому попадёт... жвачку в доме нельзя... она ко всему прилипает...
жвачку не разрешают...
Пашка услышал сзади шаги, неожиданно быстро встал на колени, прижал богатства к
животу и полуобернулся... сзади показалась Зинка.
— Я ищу тебя, а ты не откликаешься! — Пашка медленно осел и всё не отнимал руки
от живота. — Чего прячешь? — строго спросила Зинка.
— М-мг… — мотнул головой Пашка.
— Покажи! — Зинка рукой медленно оторвала одну Пашкину руку и разглядела угол
открытки. — Мишанька что ли? Дай посмотреть! — Пашка отодвинул вторую руку, и
открытка оказалась у нее. Она положила её на вылинявшее бумазеевое платье,
покрывавшее ногу, разгладила ладошкой, будто стряхнула пыль, и уставилась на
Пашку. — Собираешься? — Пашка понурился и промычал:
— М-кг… — что вполне могло означать и да и нет.
— Что-то долго не едут... может, вообще не приедут... вовсе... — Пашка смотрел
на неё испуганными глазами, и слёзы сами собой покатились по щекам.
— Чего ты! — испугалась Зинка. — Я просто так… бывает же… Может, они передумали…
Нет… наверно, денег на билет не хватает… Это далеко лететь… а денег мало… —
Пашка дёрнулся и хотел перебить Зинку, потому что у него в руке золотая гайка, и
если её расплавить и сделать кучу золота, то может, этих денег и хватит… Он уже
так привык думать, что за ним приедет большой дядя, и тётя, и девочка Кити, он
уже даже во сне их сегодня видел и вот сейчас пошёл посмотреть на свои
богатства, которые им подарит... даже Мишику, Мишаню... а тут… Он смотрел на
Зинку и слёзы снова покатились по щекам...
— Какой ты, Пашка! Я только так сказала, а вовсе не потому, что не приедут… Раз
обещали, значит, приедут… зачем им не ехать… они же один раз приехали… Просто я
думала, они много денег потратили на игрушки, на мороженое и им сразу на билет
не собрать, а вот наберут и приедут, — и тут Пашка не выдержал:
— Я им гайку подарю!
— Зачем? — Зинка даже оторопела.
— Она золотая! Видишь! — Пашка показал на посверкивающую царапину на жёлтой
грани.
— Золотая? — усомнилась Зинка.
— Золотая! — подтвердил Пашка. — Только ты никому не говори, а то Сашка
обязательно сопрёт.
— И ты её отдашь?! — изумилась Зинка.
— Отдам! — легко согласился Пашка. — А то так денег ни за что не хватит…
— Правильно! — обрадовалась Зинка. — А если останется сдача, они тебе ещё
мороженого купят и синие такие штаны, как у Кити были… называются джинсы, и ещё
картошки и с салом нажарят…
— Я тебя обязательно позову, Зинка, ты не думай! — Пашка забрал у неё из рук
гайку и торопливо стал прятать все сокровища в щель под полочку, на которой
торчали ботинками с облезлыми мысками и сбитыми каблуками. — Не веришь?! — вдруг
обернулся он. Но Зинки уже не было рядом… мелькнула в дверном проёме её спина,
втянутая в сведенные плечи голова, и Пашке показалось, что она тихо плакала.
Скандал начался сразу, как только Трындычиха утром вошла в спальню и
почувствовала, проходя мимом кроватки Кучина, запах мочи. Она остановилась,
сморщила нос, посмотрела на съёжвшегося под протёртым суконным одеялом
мальчишку, и гримаса отвращения и ненависти передёрнула её. Одной рукой она
выхватила из постели маленькое тельце и молча поволокла за собой. Две морщины,
как две канавки, на переносице и вдоль всего лба врезались в Васькино лицо. Ноги
его чуть доставали до пола, он летел по воздуху, хрипло попискивая от страха и
нестерпимой боли в запястье и плече. Стайки ребят, ещё полусонных, кидались
врассыпную и прилипали спинами к стенам. Наконец, из мальчишечьего горла
вырвался отчаянный вопль. Трындычиха от неожиданности затормозила, обернулась на
орущего, и тут к этому крику присоединился другой — отчаянный, протяжный,
перегораживающий дорогу. Посредине коридора стояла Нинка, в застиранном
бумазеевом платьице серого цвета с когда-то розовыми цветочками, похожая на
мухомор с чешуйчатой ножкой. Она орала, срываясь на сип от перенапряжения
голоса:
— Не-е-ет! Не-е-ет! Не-е-ет! — Трындычиха, обернулась, опешила и смотрела на неё
несколько мгновений, потом отодвинула рукой в сторону и сама, наконец, подала
голос:
— Все вон отсюдова! — и понеслась дальше по коридору со своей добычей. Что
произошло в мгновение за этим — понять трудно, но в результате теперь громче
всех орала сама мучительница. Ваську она машинально всё ещё держала в левой
руке, а правой трясла, что было силы, и чем сильнее встряхивала, тем сильнее
орала от боли! На её указательном пальце висела Нинка, мёртвой хваткой
сомкнувшая челюсти. Она не могла их разжать, при каждом рывке в её шее что-то
хрупало, и боль волной скатывалась к пяткам, она рычала, слюна заливала ей
горло… Через несколько секунд Нинка свалилась на пол, Трындычиха впихнула Ваську
в туалет, повернула ключ, бросила его себе в карман и ринулась в кабинет
медсестры — кровь заливала её толстую руку… За бурей последовала невероятная,
казалось невозможная, тишина, и людей в доме будто стало меньше…
— Что случилось? — спросила Наталья Ивановна, когда едва переступила порог и
наткнулась на Дусю. Нянечка всхлипывала, и не могла ничего произнести, она
комкала платок у полуоткрытого рта и, казалось, хотела его проглотить… Когда
кое-как всё выяснилось, директриса кинула на ходу: "Попросите Галину Петровну ко
мне в кабинет!" — но обернувшись, поняла, что самой надо искать виновницу
скандала… Трындычиха неожиданно вывалилась навстречу с перевязанной рукой.
Наталья Ивановна, не глядя, развернулась и направилась в свой кабинет. Сзади
неё, не попадая в такт, раздавались грузные шаги Трындычихи. В кабинете, когда
они оказались стоящими по разные стороны стола, Наталья Ивановна задушенным
голосом выдавила: "Ключ!" — и хлопнула рукой по куче папок, лежащих перед ней.
От резкого звука обе женщины вздрогнули.
— А вы знаете, как эта паршивка…
— Ключ! — ещё тише прошелестело в кабинете и следом громово удрило: — Ключ! И
вон отсюда! Чтоб вашей ноги больше тут не было! Вы или я!..
— Я! — заорала в ответ Трындычиха и запустила ключом в стол. Наталья Ивановна
невольно отшатнулась, подалась вперёд, чуть согнувшись и набычившись, уставилась
взглядом в пол и сквозь зубы выдавила:
— Вон, сука! Вон! А то я сейчас... — она медленно подняла взгляд, но в кабинете
уже никого не было. Дуся заглянула, поманенная пальцем, вбежала, схватила ключ и
ринулась вон…
Теперь Наталья Ивановна сидела одна за столом, навалившись на его ребро грудью.
Сердце колотилось, не хватало воздуха, в глазах бегали какие-то чёрные мурашки,
и она никак не могла моргнуть… “Боже! Зачем мне всё это надо…” Романтика давно
выветрилась из неё. Ещё совсем недавно она мечтала, что поедет в провинцию, в
какой-нибудь заштатный детский дом и начнёт работать, работать, чтобы самой
видеть, как всё меняется к лучшему, чтобы “улыбки радостно цвели” и было
"счастливое детство", как она пела сама ещё совсем, кажется, недавно, девочкой,
и верила, что это так будет, потом, что это должно быть, потом, что надо самой
это делать — она же педагог с высшим столичным образованием!.. А дальше
постепенно всё слабели “крылья песни”, она опускалась на землю в страдания
сиротства, обездоленности, безысходности… и те, кто мечтал, как она, уже
успокоились и смирились, а те, кто грел руки на святом деле, приспособились и
притаились…
“Сколько из нашей группы остались работать с детьми? Никто! — ответила она сама
себе. — Никто… а теперь и подавно… Всё рушится… всё меняется неподвластно и
неудержимо… Когда эпоха на переломе — плохо всем… но у одних хватает мужества
хотя бы попытаться не поддаться мутному потоку, а других несёт по течению, и они
сами стремятся ещё вперёд вырваться, воспользоваться его силой, отчего поток ещё
стремительней и непредсказуемей… Зачем? Зачем мне всё это? А что я умею? Я
больше ничего не умею, то есть вообще ничего не умею, выходит… И как жить? И
зачем?.. Мне не одолеть её... она права, когда уверенно кричит: “Я!” И что
делать? Хоть одного спасти… забрать этих двух несчастных — вот и семья будет, и
бежать отсюда: от этого ужаса, от одночества и от самой себя!.. Мне не одолеть
её... не одолеть...” Ей стало жалко себя, так жалко! Слёзы сами собой тихо
катились из глаз, и, так же как у Дуси, невольно приоткрылся рот, перед ним
оказался мокрый скомканый платок, она прижимала его к губам, как все русские
бабы, будто не хотела выпустить рвавшиеся наружу рыдания!
Снег ложится на землю. Тысячи миллиардов снежинок. И никто не знает и не
задумывается о судьбе каждой из них. Которая раньше растает, какая позже…
почему. Придёт тепло, и все они изойдут водой.
Сотни, тысячи детей рождается на земле одновременно, неизвестно что им
уготовано, когда они окончат свой путь... но есть на свете близнецы. Их
таинственная связь многократно замечена, но не объяснена, а порой мистически
интригующа... разлучённые, даже потерявшие из вида друг друга, они чувствуют
свою кровную половину на любом расстоянии. Болееют в одни и те же дни, женятся
одновременно, даже не зная об этом! В их семьях одинаковое количество детей!
Если один из них попадает в беду — другого охватывает беспокойство, ему
становится тревожно, нестерпимо плохо... В уставах многих армий записано, что
разлучать близнецов запрещено! Они служат вместе, в одном подрзделении, всегда
выполняют одни те же задания, и, случалось, один выживал только благодаря тому,
что второй пришёл на помощь в критическую секунду, оказался рядом... Да и по
неписанным законам разлучать близнецов — Грех!..
А события, происходящие независимо и вдалеке друг от друга, часто лишь по
прошествии времени становятся близнецами, благодаря своей одновременности и
обнаружившейся связи.
К приезду гостей всё было готово. Назначенный день ожидали с нетерпением каждый
по своей причине. Медленно соображавший Пашка — потому, что под влиянием
разговоров с Зинкой, всё больше привыкал к мысли, что у него теперь есть папа,
мама и сестра Кити… Он хотел скорее их увидеть и подарить им свои самые дорогие
вещи, и поехать с ними туда, где они будут вместе жить, кататься с горки, есть
жареную картошку, сколько хочешь! И мороженое!.. Ирина Васильевна — потому что
стремилась поскорее устроить Пашку, которого все они любили, и чтобы никакие
розыски и нововведения не помешали этому счастливому событию… Вилсоны — потому
что почувствовали, что уже скучают по мальчишке, которого видели всего неделю,
но успели полюбить, и который, фактически, уже жил с ними, в их семье, в их
доме. Они всё время обсуждали, как он будет учить язык, в какую школу его
отдать, как они вместе будут показывать ему любимые места: рыбалку, пиццерию,
парк Брук Дейл с новым футбольным полем, как они поедут покупать ему одежду, как
летом отправятся на океан на Сенди Хук и вместе будут прыгать на волнах, или на
целый день — в Аква парк и кататься с высоченных водяных горок, а может, на
саффари... без него уже не обходилось ни одного разговора!
<<<НАЗАД
К ПРОДОЛЖЕНИЮ>>> |