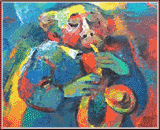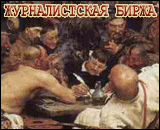| На главную сайта „Дом Корчака в Иерусалиме“ |
|
ВИКТОР
БОГУСЛАВСКИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1 Статьи Виктора Богуславского |
|
|
|
Отцы и дети русской
алии Между желанием и обладанием лежит граница, граница двух совершенно различных экзистенциальных сфер; и переход через эту границу всегда болезнен, подчас мучителен и невозможен. (И тот факт, что границей этой является сам объект желания — обладания, факт этот вовсе и не существен.) Моше Рабейну умер у границ Ханаана... Сирен Кьеркегор, основоположник современного экзистенциализма, развелся с любимой женой и сам себя вернул в состояние безнадежно влюбленного в нее же, ибо экзистенция влюбленности выше, напряженнее, „пограничнее", чем бытовые хлопоты и неурядицы семейной жизни. Фима С., двадцать лет жизни (тюрем, лагерей и заполярных лагерных восстаний) отдавший ожиданию Израиля, уехал из него через несколько лет. (Вспомним клинические свидетельства 3. Фрейда о „жениховском комплексе" — бессилии пылких влюбленных в первые брачные ночи.) Чем напряженнее и выше трепет желания, тем труднее, мучительнее, невозможнее переход к обладанию. И потому Моше Рабейну умер у границ Ханаана... 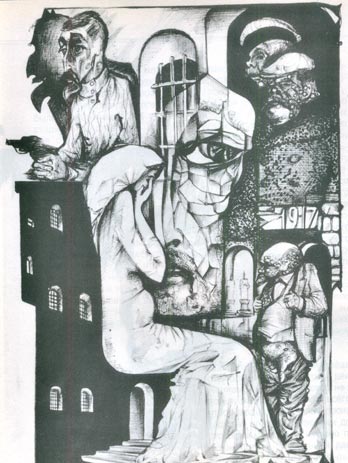 Эта невозможность перехода от желания к обладанию, создающая в сознании
личности трагедии, стрессы и комплексы бессилия, в общественном движении
оборачивается пропастью, разделяющей поколение творивших в ожидании от
поколения припавших к обладанию. Эта невозможность перехода от желания к обладанию, создающая в сознании
личности трагедии, стрессы и комплексы бессилия, в общественном движении
оборачивается пропастью, разделяющей поколение творивших в ожидании от
поколения припавших к обладанию.Эта смена поколений видна в каждой социальной, духовной или политической революции. Эта смена поколений уже ясно определилась и в нашем движении; поколение отцов, ждавших и творивших алию, — поколение детей, принявших алию как данность и действовавших в ее реальности. Но это разделение поколений, естественно, не имеет никакого отношения к возрастным категориям — многим из „отцов" сегодня едва ли под тридцать, а среди „детей" мелькают седины и лысины почтенных профессоров. Начало?.. Как всякий эпос, Исход начинался с чудес. И как положено эпосу, было явлено евреям России — поколению Исхода — три чуда. Чудо победоносного становления далекого Израиля на фоне пьяного антисемитского угара послевоенных российских лет. Чудо Пурима-1953, оборвавшего истерическую подготовку к тотальному погрому. Чудо веселой, блестящей, пьянящей победы 1967 года. На чудеса реагировали по-разному. Бесспорно, ни один еврей не оставался равнодушным к слову „Израиль". Но вокруг — вокруг все было так безнадежно! Абсолютно безнадежно: режим, прочный, как тюрьма, и, как тюрьма, равнодушно и неколебимо противостоящий любой „еврейскости". Спрячь свой „трепет иудейский" — от глаз сотрудников, от ушей соседей, от пристального, как двустволка, взгляда парторга, от пьяных полунамеков штатного стукача — спрячь! А Израиль, что ж, он — как та „зеленая дверь в стене": она есть где-то, эта волшебная дверь, она ждет, за ней все — иначе. Недоступность, нереальность мечты придавала желанию трепет святости. Любой шаг к осуществлению желания (шаг столь запретный к подъему столь нереальному) одновременно с трепетом страха вызывал трепет души. О, эти первые прикосновения к израильским открыткам (долгий, „конспиративный" разговор по телефону, двухчасовая тряска в замерзшем трамвае, оглядывания, таинственный, заговорщический шепот...)! А эти клочки бумаги, на которых записывались данные для ВЫЗОВА, — словно подписываешь приговор самому себе, и детям, и родным, включая теть и дядь до седьмого колена! Но еврей поднимался по ступенькам бумажного моста, ведшего в Израиль, и трепет страха отступал перед трепетом приближения к святыне. Перестали шептаться, заговорили вслух (с подозрением, опаской, но все-таки!), начали собираться, праздновать Симхат-Тора и даже День Независимости, учить историю в кружках и иврит в ульпанах; и вот уже самый „мешугене" совсем „распоясался" и послал в Мосгорсправку объявление: „Даю уроки иврита" — целых 15 экземпляров, с просьбой вывесить на официальных стендах. Это был 1969 год. В конце этого года евреи стали десятками и сотнями подписывать письма, предназначенные для „зарубежного общественного мнения". Они требовали „выпустить их в Израиль. Вызов в ГБ и увольнение с работы — вот что в лучшем случае ожидало подписан-та. Тогда каждый шаг предназначен был не только для того, чтобы убедить сенатора Джексона, но и для того, чтобы убедить самого себя, своих же близких. И порой оказывалось, что сенатора Джексона легче убедить, чем, например, родную маму... Осенью 1969 года на Дворцовую площадь Ленинграда тихо и неспешно вышел робкий и стеснительный Жора А., подошел к одиноко стоявшему посреди пустынной площади милиционеру и непослушными руками, неумело развернул самодельный плакатик с надписью: „Я хочу в Израиль". Милиционер посмотрел на плакатик, на Жору, оглянулся — площадь была по-прежнему пустынна — и сурово заявил: „Убери, а то вызову машину". — „Вызывайте, я подожду", — с готовностью согласился вежливый Жора. Ждать пришлось всего несколько минут — милиционер подошел к зданию Главного Штаба и вернулся в одной из всегда стоявших там наготове машин. Потом его отвезли в ГБ и продержали там несколько дней. А потом — отпустили. И встретив его через несколько дней, я не выдержал и спросил: „Зачем ты это сделал, Жора?" И услышал в ответ: „Чтобы мама поверила... Если бы меня арестовали и посадили, может, она поняла бы, что это у меня серьезно..." В 1970 году весь мир заговорил о русских евреях. Русские евреи поднялись, они ощутили решимость, они в эксгибиционистском экстазе демонстрировали ее знакомым и незнакомым, всем желающим, по нужде и без оной. Между ними и их мечтой одна только стена — стена государственного запрета. Пробить, прошибить, пролететь сквозь нее было единственным желанием. О, эта отчаянная готовность к полету! „Бегите из северного Вавилона", — в последний раз прозвучали слова ленинградских „самолетчиков", и вот уже за ними захлопываются двери тюрем, ворота лагерей. Но еврейские мамы не собирают, как прежде, трясясь от страха, „допровские корзинки" — нет, они устраивают шумные демонстрации у здания ЦК, а еврейские парни и девушки уже не сотнями, а тысячами подписывают письма протеста, и все новые вызовы ложатся на столы ОВИРов. За тридцатью арестованными поднялись тридцать тысяч „подавантов"! И стена рухнула, алия стала реальностью. Невероятной, сказочной, карнавальной реальностью: толпы в ОВИРах, шумные проводы на вокзалах и в аэропортах, письма „оттуда", полные пьяного восторга... На волне этого карнавального экстаза и прибыло в Израиль поколение „отцов". Прибыло и было встречено чиновничьим радушием и чиновничьей подозрительностью. Прибыло и привезло с собою выездную лихорадку, не дававшую переключиться в будничный ритм. Прибыло, души и мысли оставив в России, с друзьями, с „еще остающимися". Прибыло в новый мир, готовый удовлетворить их бытовые заботы, но уж никак не „трепет забот иудейских". Трепету не было места в коридорах Сохнута и кабинетах ответственных (?) лиц. И трепет превратился в чадный запах ностальгии — не по березкам и церквушкам, а по высокому горению души, по оставленным позади „звездным своим часам". Всем нам свойственно с ностальгической грустью возвращаться к воспоминаниям о своем „звездном часе" -- самом экзистенциально-напряженном (пусть даже и самом трудном) времени собственной жизни. Такого рода — парадоксальную, на первый взгляд, -- ностальгию видел я часто у бывших лагерников. А что, — ведь там, за колючей проволокой, под немигающими звездами, в свете прожекторов, голодные и затравленные, они „высоко торчали"! Звездный час „отцов алии" остался там, в России, за колючей проволокой, за дверьми ОВИРов. А здесь их ожидало всего только беспомощное и трогательно-растерянное вживание (или — невживание) в спокойную будничность жизни. Моше Рабейну нечего было делать среди расселившихся в Ханаане племен, занятых устройством своих пастбищ. И Моше Рабейну умер у границ Ханаана... „Вы, сионисты, единственное подпольное движение, победившее советский режим", — сказал мне в лагере один из русских демократов. 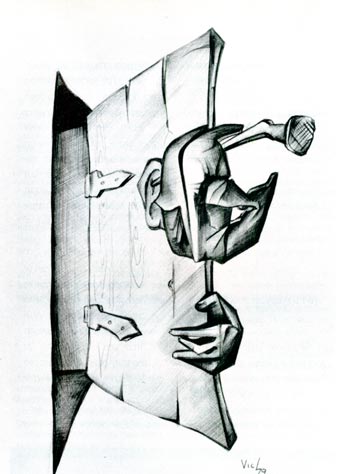 Победили. Сделали алию реальностью. И в новой реальности появилось новое поколение лидеров. Они трезво и хладнокровно, спокойно и рационально оценили ситуацию, увидели, что дозволенность алии делает подловатыми все прежние рассуждения о „неизбежности" ассимиляции — и деловито приступили к освоению обстановки. И вскоре еврейское движение в России было весьма оперативно поднято ими на куда более высокий качественный уровень: была установлена постоянная связь с Западом; была налажена сеть постоянно действующих научных семинаров, ставших международными событиями; возникла система почти незаконспирированных ульпанов; начался регулярный выпуск еврейского Самиздата, который обрел широкий круг авторов и читателей и быстро превратился в одно из интереснейших в России литературно-философских течений. Поколение деловитых „детей" начало начитывать по телефону из Москвы или Ленинграда лекции для студентов израильских университетов, печатать свои статьи в самых фешенебельных изданиях мира, красоваться на экранах западного кино и телевидения, устраивать выставки еврейской неофициальной живописи, отправлять свои картины и журналы в турне по Америкам. Какой жалкой и доморощенной должна была казаться им деятельность „отцов"... Голос „детей" стал громким, настойчивым и требовательным. „Евреи молчания", как назвал их Эли Визель в 60-е годы, десятилетие спустя превратились в самую шумную и крикливую группу в России. Питательной средой этой высокой активности стала особая разновидность советских евреев: еврей-„отказник". Само слово „отказник", в сущности, свидетельствовало уже о почти официальном признании статуса диссидента-активиста. Впрочем, „отказники" были активистами, так сказать, поневоле. К своей активности они были избраны волею ГБ. И сосредоточена была их активность в, основном, на борьбе за выезд — в большинстве случаев, за собственный выезд (правда, и это является одной трехмиллионной частью общенациональной задачи). Но официальность статуса позволяла „отказнику" регулярно крутить пуговицы у иностранных туристов около синагоги и столь же регулярно названивать еврейским активистам Парижа, Лондона и Нью-Йорка. (А эти „активисты" на Западе, — они ведь тоже „дети" нашей алии; с каким усердием борются они за „выезд русских евреев", искупая тем самым свой собственный невыезд в Израиль...) Официальность статуса позволяла ему требовать „материальной помощи" Запада и дерзко вести себя на допросах в ГБ. Насидевшись в „отказе" и получив, наконец, визу, такой активист твердо знал, что будет показан — за деньги (Магбита) — евреям Европы и Штатов, сенаторам и парламентариям. Так преисполнялся он сознания собственной значимости и позже, встретив в Израиле какого-нибудь „папашу", мог уже снисходительно кивнуть ему и, припоминая слышанную фамилию, произнести: „Вы, кажется, что-то такое подписывали когда-то?.." * * * „...Но в мире новом друг друга они не узнали..." „Дети" со снисходительным пренебрежением вспоминали о заслугах „отцов", а „отцы" — „отцы" настороженно и подозрительно обнюхивали „детей", за версту чуя в них переодетых в сионистские одежки бывших „ассимиляторов" и „демократов". И это было понятно. Ибо вся деятельность „отцов" была направлена „всего лишь" на то, чтобы заинтересовать советского еврея мечтой об Израиле, — как же может она не показаться мелочной и мелкой из „радостного сегодня", когда сама реальность России поминутно заставляет каждую еврейскую семью только об этом и думать?! А вся деятельность „детей" была направлена „против советского режима", на то, чтобы расширить рамки национального существования, — как же ей не быть (хотя и чисто внешне) похожей на активность борцов за „права человека?! (Хотя различие было очевидно, ибо еврейская активность не может, да и не направлена на то, чтобы „демократизовать" жизнь всей прочей России.) Так они и живут, и „отцы", и „дети", — с повернутыми назад головами. Они все еще там, в своем звездном прошлом, где они сами для себя — каждый! — построили „свой" сионизм. Они все еще продолжают доказывать друг другу истинность именно „своего". А споры эти — об „истинности" своего сионизма (всегда своего, а не чужого), т.е., в сущности, о том, кто больше хотел, кто сильнее желал, кто больше сделал, споры между людьми разных эпох и разных складов (ибо поколения эти отличаются и по душевному складу тоже), — они сегодня беспредметны и бессодержательны. Это одна ностальгия спорит с другой. Ибо то, что и те и другие именуют „своим" сионизмом, тот накал страстей, тот душевный подъем, что подвинул их к активности в России и привел в Израиль, — он до конца исполнил свою роль и исчерпал себя функционально в тот самый момент, когда их самолет приземлился в Лоде. Потому что Моше Рабейну умер у границ Ханаана... Я думаю, что нам суждено еще увидеть и третье поколение. Это будут „внуки" алии — те, кто не истратил себя ни на борьбу с евреями за их пробуждение, ни на борьбу с советской властью за ее уступчивость, кто сохранил себя для активности здесь, в Израиле. Но если и они, следуя моде давно прошедшего сезона, начнут рассказывать вам о своем „боевом прошлом" там, в России, — не верьте им, не слушайте, отвернитесь. Это значит, что они мертвы. Ибо... Моше Рабейну умер у границ Ханаана... К ПРОДОЛЖЕНИЮ 2 К НАЧАЛУ |

 „Еврейская культура"? В Израиле, среди кипот и пейсов, среди синагог и иешив,
с Танахом с детского сада до багрута, с маген-давидом на знамени и менорой на
гербе, выросло поколение, начисто изолированное от всех евреев мира.
„Еврейская культура"? В Израиле, среди кипот и пейсов, среди синагог и иешив,
с Танахом с детского сада до багрута, с маген-давидом на знамени и менорой на
гербе, выросло поколение, начисто изолированное от всех евреев мира.