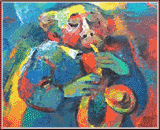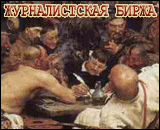|
 Интервью
с Виктором Богуславским Интервью
с Виктором Богуславским
У истоков
В начале 70-х годов в России существовал Координационный Комитет,
который руководил деятельностью всех — или почти всех — молодых сионистов.
Что представлял собой Комитет?
Строго
говоря, органа с таким названием не было. Сие громкое наименование
относилось к периодическим встречам представителей еврейских групп разных
городов. Чуть не сказал „сионистских групп", но мы этим термином
практически не пользовались. Вот и у упомянутого Координационного Комитета
не было в названии этого прилагательного. Движение тогда только
зарождалось, точнее было бы сказать — только еще само себя придумывало. И
громкое название полуслучайных встреч пяти-шести человек из разных городов
тоже было элементом такого самопридумывания. Движение придумывало себя, но
не было в состоянии придумать свои цели. Выезд, алия виделись абсолютно
нереальными, неосуществимыми. Посему именовать себя сионистами мы никак
всерьез не могли. Скорее, нас можно было бы назвать „любителями Сиона",
Ховевей Цион...
Эти периодические встречи, этот «Координационный Комитет», появились,
стало быть, уже на фоне сложившихся еврейских групп?
В Ленинграде, в Москве, в Риге еврейские группы сложились уже в середине
60-х годов. Но они тоже не были первыми. Мне представляется, что еврейское
движение существовало в России всегда, даже в годы самых суровых
репрессий. Уже образование Израиля, в 1948 году, вызвало массовые аресты
поднявшихся тогда российских евреев — это известно. Я думаю, что именно
эта неистребимость еврейского движения и породила в конце 1952 года
чудовищную подготовку „окончательного решения", начавшуюся с „дела
врачей". Мне было тогда 13 лет, но я по сей день помню ту жуткую атмосферу
тотального погрома — и ни звука протеста: евреи были скованы смертельным
ужасом. Кто мог представить себе, что через 15 лет появятся коллективные
письма правительству Израиля, что через 18 лет евреи будут устраивать
голодовки в Президиуме Верховного совета СССР, а через 20 лет западные
корреспонденты будут приходить к евреям на дом, чтобы участвовать в
пресс-конференции на тему: „Отпусти народ мой"?! Когда сегодня из России
приезжают взрослые, сорока-пятидесятилетние люди и начинают говорить о
„невероятном росте антисемитизма", мне это кажется странным. Они что —
разучились сравнивать, разучились помнить? Забыли 1953 год? Говорят,
рожавшая женщина не помнит родовых мук — так „природа захотела". Чтобы не
страшно было рожать снова. А что мы такого родили в той боли, чтобы ее не
помнить?
 А потом, после Сталина, наступило затишье? А потом, после Сталина, наступило затишье?
В более благополучные годы „оттепели" еврейские группы начали появляться
снова, об этом говорят тогдашние судебные процессы. Борис Подольский и
Тина Бродецкая могли бы подробнее рассказать об этом периоде. Таких
процессов было много, может быть, десятки, но с информацией в те годы было
плохо. Только стали появляться коротковолновые приемники, Израиль вещал на
Россию всего два раза в неделю по 15 минут, и самым трогательным в этих
передачах были позывные, все остальное практически не удавалось услышать —
глушили.
Но это все были разрозненные группы. Когда же появились начатки массового
движения?
Я думаю, обстановка резко изменилась в 1967 году. И дело было не столько в
израильской победе в Шестидневной войне, сколько в реакции на нее
российской власти и общественного мнения. Реакция властей, то есть
официальной пропаганды, была совершенно истеричной. Волна неудержимой
„поливы" на крошечный Израиль, заполнившей все каналы радио, телевидения и
прессы, была абсолютно несоизмерима с масштабами глобальной политики
великой державы. Бесконечные вопли о коварстве израильских агрессоров и
мощи всемирного еврейского заговора, казалось, должны были подготовить
новый еврейский погром в общегосударственных масштабах. Должны были — но
не подготовили.
Дело в том, что простому русскому человеку очень импонировала победа
Израиля. Во-первых, он, простой русский человек, любит победителей и
глубоко убежден, что победитель должен быть жесток, свиреп и беспощаден. А
посему все бредни официальной пропаганды об израильских „зверствах" он
воспринимал с благодушной усмешкой. А во-вторых, он, простой русский
человек, — расист. Арабы для него — „черножопые". Евреи же в этом
конфликте были для него свои, „наши". И евреи России в результате „высоко
заторчали". Русский интерес к Израилю и к еврейским делам стимулировал
затаенный, задавленный еврейский трепет. До этого советский еврей привык
отчасти мириться со своим еврейством, отчасти его скрывать — в общем,
воспринимать его как „инвалидность пятого пункта", как это называлось. И
вдруг на него обрушилась такой силы атака непрерывной, тотальной
пропаганды, к тому же несправедливой — ведь, в конце концов, маленький
этот Израиль, все-таки, победил! — такой силы атака, что у него, у
советского еврея, появился интерес к этому самому Израилю. А симпатии
русских еще больше стимулировали такой интерес...
И на этом фоне началась история вашей организации? Что она собой
представляла?
Ну, ленинградская организация была, пожалуй, самой конспиративной и самой
организованной из всех. В других городах это было попроще. В Москве,
например, инициаторами были люди, уже отсидевшие в лагерях, как
Свечинский, Хавкин, Меир Гельфонд. За Меиром была вся конспиративная
деятельность, за Хавкиным — вся публичная, демонстративная, а Свечинский,
в основном, занимался связями с внешним миром и некоторой координацией
всех остальных дел, в том числе координацией связи с другими городами. При
всем этом они как-то уживались, у них не было таких четко определенных
функций, устава, как в Ленинграде, обязательства решать все вопросы так
или иначе. В Риге вообще ситуация была иная, там они сразу же заявили, что
у них вопрос о „пробуждении национального сознания" вообще не стоит.
Сознание у них есть, а вопроса нету. Они охотно занимались печатанием и
распространением литературы, но не для „пробуждения", а просто потому, что
это им доставляло удовольствие. Они ждали выезда. У них там был выезд,
после Шестидневной войны, хотя и небольшой, они помнили также выезд евреев
50-х годов, через Польшу, у многих были родственники в Израиле, в общем —
там была совсем иная ситуация.
 А чем же занималась ваша, ленинградская организация? А чем же занималась ваша, ленинградская организация?
Вот этим самым „пробуждением национального самосознания"... В основном, с
помощью распространения литературы, переводов, организации еврейских
праздников, кружков. С литературой тогда было хуже всего. Обсуждали, что у
кого есть, кто что может достать, кто может заняться размножением и
распространением. Тиражи были небольшие. Тираж в сотню экземпляров
считался фантастическим. Изготовить его, в принципе, было не трудно,
проблема была распространить. Мы радовались, когда такие тиражи
расходились. Это означало, что у нашего „движения" есть потенциал.
Вообще-то в потенциал верилось слабо. Собственно „функционеры", то есть
наша организация, несколько десятков человек, и человек пять-шесть
знакомых вокруг каждого — это и было поначалу все „движение". Но одно дело
— „функционерство", а другое — еврейский душевный порыв. Функционерство, я
бы сказал, даже снижает этот порыв: ты уже занят, ты действуешь, ты при
деле. А настоящее массовое движение — за выезд, за алию — возникло за счет
людей, у которых был этот порыв. Не за счет „функционеров", а за счет тех
самых мальчиков и девочек, которые вокруг них крутились и понятия не имели
о существовании конспиративного центра. Просто, почувствовав некую тягу,
они вдруг осознали, что готовы на такой акт, как отъезд. Акт, надо
сказать, фантастический. Ведь никто тогда этот отъезд не представлял себе
как конкретный, бытовой, практический шаг. Да и сам Израиль воспринимался
тогда фантастически, нереально. Так что это было что-то вроде прыжка в
неизвестное.
Я хотел бы вернуться на несколько лет назад. Организация, ты говоришь,
возникла уже в конце 60-х годов. Что представляли собой эти первые, как ты
их называешь, «функционеры»?
Сегодня почти все они находятся в Израиле. Каждый может ответить сам за
себя. Поэтому я обрисую только в самых общих чертах. Группа функционеров
была, в среднем, старше, чем ее окружение. Это были люди, перевалившие за
30, у всех у них пик советского антисемитизма 1948-53 годов пришелся на
период созревания, заострив чувствительность в этом вопросе. Все — люди с
высшим образованием (Бутман — даже с двумя). В общем, обыкновенные
ленинградские евреи, отличительной чертой которых было, разве что, полное
отсутствие карьеризма, столь принятого в кругах советско-еврейской
интеллигенции. Поэтому-то они все свободное время отдавали еврейским
делам.
Более модными были, кажется, дела «демократические»?
Нет, через увлечение демократическим движением, общим диссидентством никто
их этих людей не прошел. Думаю, именно потому, что в молодости они прошли
через шокотерапию антисемитизма, так что чисто „российские" дела их
особенно не занимали. Некоторая симпатия и интерес, естественно, были у
многих, но такие интересы настоятельно требовалось отделять от собственно
еврейских. Это называлось у нас „соблюдением кошера"...
Что же привело этих людей к Израилю? Как произошло их «еврейское
становление»?
 А по-разному. Кое-кто случайно оказался в связи с людьми из прежних
сионистских центров. В Ленинграде еще оставалось несколько стариков,
которые сохранили именно сионистскую, а не просто еврейскую
вдохновенность. В целом евреи 60-х годов очень смутно представляли себе
сионизм. Советская пропаганда тоже тогда о нем не кричала. Я помню, что
когда в детстве услышал слово „сионизм" и спросил отца (который происходил
из бедной кременчугской еврейской семьи), что это такое, он мне ответил:
„Это фантазии разных богатых евреев, которым нечего было делать..." А
когда я спросил о том же его друга, который, напротив, происходил из
богатой кременчугской еврейской семьи, тот сказал: „Сионисты? Это были
голодранцы, которые не умели работать и поэтому занимались политической
болтовней..." Вот такое представление о сионизме было передано нашему
поколению. А по-разному. Кое-кто случайно оказался в связи с людьми из прежних
сионистских центров. В Ленинграде еще оставалось несколько стариков,
которые сохранили именно сионистскую, а не просто еврейскую
вдохновенность. В целом евреи 60-х годов очень смутно представляли себе
сионизм. Советская пропаганда тоже тогда о нем не кричала. Я помню, что
когда в детстве услышал слово „сионизм" и спросил отца (который происходил
из бедной кременчугской еврейской семьи), что это такое, он мне ответил:
„Это фантазии разных богатых евреев, которым нечего было делать..." А
когда я спросил о том же его друга, который, напротив, происходил из
богатой кременчугской еврейской семьи, тот сказал: „Сионисты? Это были
голодранцы, которые не умели работать и поэтому занимались политической
болтовней..." Вот такое представление о сионизме было передано нашему
поколению.
При всем при этом, однако, какая-то эстафета, какая-то тоненькая струйка
все-таки сохранялась. Были люди, которые еще в 50-е годы искали связей с
израильским посольством. Но что могло тогда предложить израильское
посольство? Журнал „Шалом" и еще более тощенький журнальчик „Ариэль", вот
и все. Иногда нам удавалось разыскать какую-нибудь старушку, у которой
случайно завалялись ивритские тексты начала века.
Значит, кроме общего интереса к Израилю у вас был и интерес к ивриту, к
национальным «корням»?
Был интерес. Создавались кружки иврита, кружки еврейской истории. В те
времена можно было повесить на доске горсправки объявление: „Даю уроки
иврита"... Другое дело, что уровень преподавания был, конечно, низок. И
сами кружки устраивались, честно говоря, не столько для изучения иврита,
сколько для общения желающих его изучать. В самом изучении не уходили
дальше двух-трех сотен слов. И не потому, что не было желания. Просто не
выросло еще поколение учителей, не было учебников. Я помню, как мы
мучились, отснимая фотоспособом учебник „Элеф милим", пока Изя Шмерлер
(ныне Шамир) не придумал простой, но гениальный ход: за три бутылки водки
отпечатал в новосибирской типографии несколько сот экземпляров, потом
„охмурил" стюардессу Аэрофлота и лично доставил нам в Ленинград два
чемодана шикарных, типографским способом отпечатанных книг...
А интерес к традиции, к религии тоже был?
Нет, эти слова, в их прямом смысле, даже не употреблялись. Все без
исключения функционеры, все их окружение были людьми, весьма далекими не
только от религии, но даже просто от еврейской традиции. И символика
еврейских праздников, которые мы тщательно отмечали, привлекая к этому
делу как можно больше евреев, была символикой национального, а не
религиозного возрождения.
Я помню первое столкновение с „вернувшимися в лоно" религии. Это выглядело
совершенно анекдотически. Я тогда организовывал в Ленинграде встречу с
представителями Риги и Москвы для совместного издания нашего первого
самиздатского журнала „Итон". На конспиративной квартире, где должны были
происходить „заседания" и где гости должны были прожить эти несколько
дней, я приготовил запасы еды -- консервы, сыр-колбаса, хлеб-масло. Гостей
было двое - Карл Малкин из Москвы и Иосиф Менделевич из Риги. Доставив их
в квартиру и выставив на стол еду, я зачем-то вышел в соседнюю комнату, а
когда вернулся, передо мной была немая, но изумительная сцена! Эти двое
стояли под лампочкой, сомкнувшись лбами (оба были страшно близоруки) и
держа в руках рыбку-шпроту, тщательно ее рассматривали. В ответ на мое
недоумение они сообщили, что пытаются определить, есть ли на шпроте чешуя.
То есть, кошерна ли она. Можно ли представить себе еврейского мальчика,
который не был бы знаком со шпротой с раннего детства? Сей чешуйчатый
анализ явно свидетельствовал о свежести их новообращения. Я им посоветовал
проверить, не раздвоены ли у шпроты копыта, а Менделевич на это
огрызнулся, что если мы когда-нибудь окажемся в Стране, то будем по разные
стороны баррикад. Сегодня мы оба в Стране, но к счастью баррикад пока
вроде нету...
 Однако в общем такие „возвращенцы в религию" были в те годы весьма
малочисленны, и не только в Ленинграде, но и в той же Риге, и в Москве. Мы
в достаточной мере ощущали себя евреями, не испытывая никакой нужды в
каких-либо „курсах повышения" своей еврейской квалификации. Да и сам пульс
тех дней был так напряжен, так насыщены были те дни конкретными событиями,
что никак не мог возникнуть настрой для размышлений о трансцендентных
сторонах бытия. Однако в общем такие „возвращенцы в религию" были в те годы весьма
малочисленны, и не только в Ленинграде, но и в той же Риге, и в Москве. Мы
в достаточной мере ощущали себя евреями, не испытывая никакой нужды в
каких-либо „курсах повышения" своей еврейской квалификации. Да и сам пульс
тех дней был так напряжен, так насыщены были те дни конкретными событиями,
что никак не мог возникнуть настрой для размышлений о трансцендентных
сторонах бытия.
Что же объединяло всю эту массу — только чувство израильского
патриотизма?
Я бы не сказал даже, что это был израильский патриотизм. Это был, скорее,
некий поиск душевного равновесия. Когда на тебя обрушивается тотальный
шквал антисемитской пропаганды, возникает необходимость внутренне что-то
этому противопоставить. И по мере нарастания этого шквала нарастало такое
вот внутреннее сопротивление, внутренняя симпатия к самому еврейству и к
Израилю. Причем, я думаю, что больше именно к Израилю. Если бы нам тогда
сказали, что Израиль вообще отошел от иудаизма, нет такового, в наших
глазах он ничего бы не потерял.
То, что мы слышим сегодня от еврейских активистов из России — в основном,
религиозных — это, прежде всего, связь именно с еврейством, с традицией, с
иудаизмом, а не с Израилем, как таковым. Это прямо противоположная
картина.
Я думаю, сегодняшнее религиозное возрождение среди молодых советских
евреев - явление, в известной мере, действительно противоположное тому,
что было в 70-е годы. Сионистская направленность этого возрождения мне
кажется сомнительной. Ведь сионизм изначально относится к еврейской
традиции довольно прохладно. Более того, в нем, я бы сказал, был даже
известный элемент „антиеврейства". Если под еврейством понимать только
традицию, галутный образ жизни. Сионизм считал, что все это нужно
сломать...
Ну, и как же развивалась эта ваша деятельность?
Круг людей, которых мы вовлекали, становился постепенно более широким.
Стали проводиться целые сборища, на которые приглашались и все эти
„мальчики и девочки", и просто случайные люди, и даже русские друзья.
Движение - если это называть „движением" — из подпольного кружка стало
превращаться в массовое, открытое, даже я бы сказал, „салонное" явление.
Мне-то в этом виделся как раз наш основной успех. Я не верил, что у
конспирации есть будущее. К тому времени, к началу 70-х годов, мы
переросли конспиративные рамки. Уже было достаточно мальчиков и девочек,
готовых в свободное время попечатать учебники, распространить еврейский
самиздат, для этого не нужна была узкая конспиративная группа. Когда
Бутман затеял свой „поиск кандидатов" для похищения самолета, он эту акцию
предлагал десяткам людей. Если в нашем окружении было к тому времени
несколько десятков людей, которым можно было предложить участие в такой
исключительной акции, значит, выбирать их можно было, по крайней мере, уже
среди нескольких сотен.
Конспирацию пора было кончать. Она становилась бессмысленной. Хотя в
возможность выезда, во всяком случае — при нашей жизни, тогда не верил
никто, зато в возможность загреметь в лагерь верили все. Но считали
все-таки, что главная задача — как можно дольше продержаться. Я помню
такое любопытное совпадение: 14 июня 1970 года в Ленинград приехали
„самолетчики" из Риги, и в тот же день съехались на очередной „съезд"
Координационного Комитета активисты разных городов, ничего не зная о
„самолетной акции". И вот в ту ночь у меня сидели Виля Свечинский из
Москвы, Фима Спиваковский из Харькова, ребята из Риги, конечно,
ленинградцы — и почти всю ночь мы обсуждали: смотри, мы, можно сказать,
совсем обнаглели, мы уже почти в открытую прем, забыли о всякой
конспирации — а они нас не сажают. Что же это происходит, братцы? Ну,
назавтра посадили...
И это был конец «конспиративного этапа» движения и начало «массового»?
Я бы сказал так: в России всякое движение мысли начинается — так было, по
крайней мере, последние 200 лет — с подпольной организации. В России это
неизбежная стадия самосознания любого общественного процесса. Почему так
происходит — вопрос сложный. Вопрос, как любили выпендриваться в те годы,
подлежащий изучению в экзистенциальном и бихевиористском плане. А проще
говоря — в плане мировосприятия и поведения: человека и власти (всегда
сильной и тоталитарной), человека с себе подобными в силовом поле этой
власти. Во всяком случае, это факт — в начале было слово, и слово это было
конспиративно, и слово это было „организация". И у этой стадии
общественного движения, стадии подпольной и организованной, есть
любопытная особенность — весьма постоянный во все времена период
полураспада. Именно „полу-", а не полного распада.
Это период, в течение которого, как правило, возникают вполне легальные,
открытые течения, отвергающие методы своих предшественников и меняющие
общественную атмосферу настолько, что подпольная стадия начинает выглядеть
странной и ненужной. Период этот в российских делах на удивление постоянен
— он составляет полтора десятка лет.
Например?
Пожалуйста, декабристы — подпольное общество, заговор, восстание - - 1825
год. А „люди 40-х годов" уже преспокойно обсуждают все эти проблемы на
всех уровнях, от студенческих кружков до светских салонов, без всякой
конспирации, заговоров и тайных обществ. Народовольцы - - тайные общества,
жуткая конспирация, бомбы -90-е годы. А в 1905 году „вся страна"
преспокойно обсуждает достоинства и недостатки манифеста, реформ и
прочего.
Имела место, правда, дурацкая попытка бунта (Московское вооруженное
восстание), но это относилось исключительно к личным амбициям
большевистских лидеров, а не к общественным устремлениям. Такое всегда
бывает.
У нас, в ленинградской организации, такие личные амбиции тоже сыграли свою
роль. Я думаю, это явление „полураспада" делает понятным и столь странный,
на первый взгляд, и столь смущающий по сию пору души русских правдолюбцев
поворот в мировоззрении Достоевского. Он был членом подпольной
организации, счастливо избежал в последний момент казни, провел более
десяти лет на каторге и в ссылке, вернулся в столицу, занялся
сочинительством и огляделся вокруг. Прошли те самые полтора десятка лет. И
он увидел, что все те идеи, что обсуждались в его „тайном обществе", давно
стали общим достоянием здравомыслящей части общества. И люто ненавистна, я
думаю, стала его подпольная „бесовщина", которой он отдал огромную часть
своей жизни...
Увы, конспирация неотделима от «бесовщины». Я видел это в еврейском
движении в 70-е годы, уже после ленинградских процессов.
И заметь — когда сравниваешь подпольщину с открытым движением, сравнение
всегда не в пользу подполья. Прежде всего, отбор людей в подполье
происходит не столько по личным достоинствам, сколько именно по склонности
к подпольной деятельности. Поэтому открытые движения всегда ярче блещут
талантами. Во-вторых, взаимоотношения между людьми, связанными круговой
порукой конспиративного „братства", весьма далеки от братских, они
бесконечно хуже нормальных отношений, ибо естественные чувства симпатии и
антипатии, дружбы и вражды здесь подчинены, прежде всего, самой
конспирации и некоему надуманному общему долгу. Общность же этого долга
подавляет всякую иную общность либо разобщенность.
 Короче, как сказал марктвеновский нищий: мне не повезло — я вынужден
протягивать руку к людям, которым я бы ни за что не подал руки... Короче, как сказал марктвеновский нищий: мне не повезло — я вынужден
протягивать руку к людям, которым я бы ни за что не подал руки...
Теперь — что произошло в наше время? Все эти российские дела, знакомые нам
по 19-му веку, вернулись на круги своя после сорокалетнего перерыва в
середине 50-х годов. В широких, прежде всего — молодежных кругах ожили
движения мысли и возникли конспиративные организации. Это, во-первых, —
движение общедемократическое, в очень значительной мере состоявшее из
евреев, затем — движение русского национального возрождения, в
значительной мере юдофоб-ское, но и там тоже, как ни парадоксально,
случаются евреи - и движение еврейского возрождения.* И обрати внимание:
все эти три движения, „русское", „демократическое" и „еврейское",
начавшиеся в середине 50-х годов как движения подпольные, пришли к 1970
году, через те самые полтора десятилетия, к завершению „подпольного
полураспада", что и было обозначено судебными процессами тех лет. Эти
процессы, разгромив конспиративные организации, убедили их последователей
покончить с подпольными методами и перейти к открытым формам.
Какие именно процессы ты имеешь в виду?
В русском движении переломным моментом был процесс Огурцова и его группы
ВСХСОН в Ленинграде в конце 60-х годов и процесс Осипова и его журнала
„Вече" в Москве в начале 70-х. То, что эти процессы несколько расходятся
во времени, характеризуют, по-моему, известную неопределенность отношения
властей к русофильскому движению. С движениями демократическим и еврейским
власти расправились решительней. Подпольное демократическое движение было
сломлено процессом Якира и Красина, а наше — вторым ленинградским
процессом. Они и прошли-то сходно. И последствия у них были аналогичные.
После процесса Якира-Красина ведущим в диссидентстве стало движение
правозащитное, массовое, открытое, провозгласившее своим девизом
гласность. Этот девиз отрицал, естественно, методы
предшественников-демократов, но он же явился боевым кличем новой
оппозиционности. Ведь ни для кого не секрет, что советская власть, этот
мичуринский гибрид органов партийных с органами безопасности, — самая
подпольная организация в России. Такой власти гораздо труднее
противостоять требованиям гласности, чем подавить десяток конспиративных
ячеек. В этом был залог многих успехов правозащитников, привлекательность
их методов. И евреи в начале 70-х годов тоже — я думаю, в значительной
мере под влиянием этих успехов — обратились к открытым методам гласной
борьбы.
В чем же, все-таки, было сходство вашего процесса с процессом
Якира-Красина?
Ну, во-первых, оба были процессами над многолетними „функционерами".
Во-вторых, оба готовились как процессы разгромные и тотальные, с целью
подавить движение и дискредитировать его полностью. В этом, кстати, их
отличие от сегодняшних процессов. Сегодня это, как правило, процессы
одиночек, проводимые с целью запугать других одиночек. Но не с целью
уничтожить движение в целом. Тут уже идет, так сказать, не стратегия, а
тактика.
Но и здесь, как будто, берутся люди, представляющие основное
направление движения...
Не знаю, не уверен. Во всяком случае, это не лидеры. Лидеров сохраняют и,
более того, — их в последнее время, по-моему, выпускают. Берут одиночек.
Быть может, самых дерзких, быть может — в чем-то переступающих границы
„дозволенного", которые власти сами же и устанавливают...
Может быть, тех, кого считают возможным сломить?
Это было всегда. Тут КГБ всегда работал по стандарту. Но я думаю, сейчас у
них иные заботы: избежать большого внешнего шума и не брать слишком
популярных и известных людей. Сейчас известными эти арестованные
становятся, в основном, после того, как их сажают, до того о них почти
ничего не знают...
Значит, ваш процесс ты считаешь вполне, так сказать, «закономерным» ?
Это была закономерность слишком затянувшейся конспиративности. Как только
появился потенциал массового движения и как только наша организация на
этом фоне развернула широкую деятельность, она фактически вступила в
период своего „полураспада". Пока в ней было полтора десятка человек,
конспиративная форма придавала некую остроту их общению. Но когда
деятельность этого кружка расширилась на многие десятки и сотни людей,
когда в организуемых нами празднествах стали участвовать сотни евреев, тут
уже не было места для конспирации. К 70-му году, когда наладились связи с
другими городами, когда „подписантство" пришло и в Ленинград, когда все
члены руководства (кроме Бутмана, упорно твердившего: „Мы пойдем иным
путем") подписали открытые письма с заявлением: „Мы хотим в Израиль" —
конспирация стала парадоксом. Вполне можно было уже „рассекретить" кружки
иврита и истории. Сами собой рассекреченными стали организация праздников
и распространение литературы. Ведь главной целью всех этих акций было как
раз идти в открытую.
 Как возникла идея с самолетом? Как возникла идея с самолетом?
Тут есть один момент, по сию пору вызывающий сомнения. Дело в том, что
идея, строго говоря, возникла не у Бутмана, а у Марка Дымшица,
летчика-профессионала. А на Бутмана Дымшиц вышел через какого-то „Веню",
причем, как потом оказалось, этот „Веня" не был знаком ни тому, ни
другому! Позднее, в ходе многомесячного следствия, когда на страницах 44
томов следственного дела (на 2 тома больше, чем на Нюрнбергском процессе!)
КГБ обсасывал буквально каждый „эпизод" нашей деятельности, он почему-то
совершенно не заинтересовался ни самим фактом этого поистине судьбоносного
знакомства, ни личностью загадочного „Вени".
Надо сказать, что идея Дымшица была предельно проста и вполне осуществима.
Собираются 12 евреев, закупают места на 12-местный самолет из Ленинграда в
какой-нибудь районный центр поближе к финской границе — тогда еще не нужно
было при покупке билетов предъявлять паспорт, это стало нововведением
после „самолетного" процесса, — после взлета связывают летчика, его место
занимает Дымшиц. Пять минут полета над Финляндией, посадка в Швеции,
пресс-конференция...
У меня до сих пор остается впечатление, что на самом деле осуществилась
идея „неизвестного Вени", то есть, по сути, КГБ. Ведь покончить с
сионистским движением в виде хотя и подпольной, но безобидной организации,
занятой историей и ивритом, было сложнее, чем с организацией, замешанной в
попытке осуществления террористического акта.
Когда же они с вами покончили?
15 июня 1970 года, в день ареста „самолетчиков", КГБ начал свое
грандиозное „Дело № 15". Я в тот день, после многочасового обыска,
проведенного на моей квартире гебистами, к великому своему удивлению
остался на свободе. Выйдя на улицу, я увидел газету „Вечерний Ленинград" с
крохотным сообщением в две строки: „Сегодня в аэропорту Смольный
арестована группа лиц, пытавшихся захватить гражданский самолет..."
Помчался обзванивать знакомых. Постепенно картина стала проясняться.
Проведено около сотни обысков, и не только в Ленинграде, но и в Москве,
Риге, Кишиневе, Одессе. Арестованы все члены Комитета. (Позже, уже будучи
„внутри", я узнал, что в те же дни были выделены в производство дела
десятков еврейских активистов по всему Союзу и что в Ленинград были
вызваны из всех крупных республиканских и областных центров десятки
следователей КГБ для инструктажа и тренажа по проведению антиеврейских
процессов. Но это я узнал позже.)
Затем поползли хорошо запланированные „слухи". Инструкторы доверительным
тоном сообщали на „закрытых собраниях", что доблестные органы вскрыли
мощную сеть сионистского заговора, направленного на проведение массовых
диверсий. Мне было ясно, что с момента арестов эпоха скрытой,
конспиративной деятельности закончилась. Все наше „тайное" должно было
отныне стать явным. Нужно было громко закричать о своих сионистских
симпатиях, о невозможности открыто изучать историю и язык своего народа, о
невозможности легального выезда в Израиль — только тогда всему миру станет
понятна и подоплека попытки угона самолета, и вся деятельность „подпольных
сионистов". Только когда раздастся такой крик, миру станет ясно, что
происходит с евреями за тысячами затворов советской границы. В те годы мы
уже знали о кликухе, приклеенной советским евреям Эли Визелем — „евреи
молчания". Пора было кончать с молчанием. Аресты давали уникальную
возможность вслух заговорить об антиеврейских преследованиях.
Значит, ты один из немногих остался на свободе - и что же?
Слежка за мной в те дни была непрерывной и открытой. Ходили внаглую,
поодиночке и группами, не отступая ни на шаг. Все-таки, после нескольких
неудачных попыток, мне удалось в 20-х числах июня попасть в Москву и
передать иностранным корреспондентам текст своего „открытого письма". Уже
в Москве, среди самих „корров", оно произвело сенсацию и через час ушло
сразу с четырех телетайпов. Позднее письмо это было опубликовано всеми
крупными газетами мира, неоднократно транслировалось всеми радиостанциями,
вещавшими на СССР. Стена молчания дала первую трещину. Я прекрасно
понимал, что за полученное удовольствие (и еще какое!) должен буду
заплатить соответствующую цену. И чувствовал себя вполне к этому готовым.
Если сидит весь Комитет, почему бы и мне не присоединиться к своей
компании? В те же дни письмо аналогичного содержания написал и Гилель Шур.
Он тоже был вскорости арестован.
Ты им предложил тебя арестовать, и они тебя арестовали?
Меня взяли 8 июля. За 22 дня, прошедших со времени ареста „самолетчиков" и
Комитета, я измотался страшно. Это был бег „наперегонки со временем". С
момента отправки „Открытого письма" я был уверен в собственном аресте, но
хотелось еще что-то успеть — поговорить с одним, подбодрить другого,
получить новую информацию, раздать деньги женам арестованных (у меня
оставалась „партийная касса" организации, которую удалось сохранить при
обыске). К моменту ареста — утром, у входа на работу, после очередной
бессонной ночи — у меня было лишь одно желание: выпить чашку кофе. Этой
чашки мне пришлось ждать 15 месяцев — я получил ее у костра Мордовской
зоны, из рук „самолетчика" Толи Альтмана...
Сам по себе арест я воспринял спокойно, даже с некоторым облегчением: вот
камера, вот койка, можно лежать и никуда уже не нужно спешить — от моей
поспешности уже ничего не зависит. Все, что мог, я уже сделал, а теперь
можно читать простые книжки и думать о простых и приятных вещах. Да,
именно простые книжки. Все деликатесное чтиво, где подлость так тонко
разведена розовой сентиментальностью, где поток душевной низости героя
вдруг так красочно прерывается вспышками творческого восторга, где
коварный расчет замешан на искренней страсти — все эти пряные специи
хороши для чтения в шезлонге, на берегу Средиземного моря. А в камере,
между допросами, чет ничего лучше Дюма. Где черное - черное, белое —
белое. Где благородство торжествует, подлость наказывается, а к
 восторгам
любви прилагаются ящики бриллиантов. Такое чтиво очень помогает сохранить
оптимизм, помогает, идя бесконечными тюремными коридорами из камеры на
допрос, напевать про себя русские вариации на мотив израильской песни
„Бывали времена....": „мы пронесли свою мечту сквозь волчий вой, мы на
допросы выходили, как на бой, вдали от родины мы жили лишь одним — айю
зманим, айю зманим..." — и войдя в кабинет следователя, нагло „вешать
лапшу" ему на уши. восторгам
любви прилагаются ящики бриллиантов. Такое чтиво очень помогает сохранить
оптимизм, помогает, идя бесконечными тюремными коридорами из камеры на
допрос, напевать про себя русские вариации на мотив израильской песни
„Бывали времена....": „мы пронесли свою мечту сквозь волчий вой, мы на
допросы выходили, как на бой, вдали от родины мы жили лишь одним — айю
зманим, айю зманим..." — и войдя в кабинет следователя, нагло „вешать
лапшу" ему на уши.
Почему же, все-таки, раскалывались? Ведь это был процесс
«функционеров». Вроде бы такие люди должны быть готовы к подобным
вершинам?
Почему кололись практически во всех процессах подпольщиков? Потому что
сама специфика „подпольщины" создает своего рода „комплекс вины": ведь
если невинно, то почему тайно? Она же создает и „комплекс раскола" — если
уж ты свое „тайное" сделал явным, ты уже предал, тебе уже не на чем
держаться. И потом, функционеры к тому времени уже в течение многих лет
играли с КГБ в кошки-мышки. У них возникла некая, я бы сказал, душевная
усталость. И арест в этих условиях — это как конец большого, длительного,
многолетнего напряжения. Ломается какая-то пружина. А кроме всего прочего,
не вдаваясь в сравнения, надо сказать, что в массовом процессе очень
многое зависит от личностей. Достаточно одного-двух признаний, чтобы
сломить всех остальных.
«Самолетный процесс» прошел лучше?
„Самолетчики" держались прекрасно. Но ведь они и так шли в открытую. Они
шли на декларативную акцию, поэтому следствие и суд были тут просто одним
из естественных вариантов ее развития. Практически, вариантов у них было
всего три: маловероятный отлет и вполне вероятные смерть или арест, причем
каждый из возможных результатов наступал, как говорил Воланд, мгновенно.
Последний — и осуществившийся — вариант, арест, чисто теоретически можно
было рассматривать по-разному. По существу, была арестована группа людей,
имевших билеты на самолет, но не успевших произвести ни одного
закононаказуемого действия. Ну, что арестовали — это понятно: донос,
слежка, оперативные данные. Но ведь доказательств никаких. Так, казалось
бы, — что стоит представить свою затею в виде коллективной поездки,
турпохода — и все дела? Я неоднократно, уже постфактум, обсуждал со
многими „самолетчиками" такую возможность и понял: психологически она была
для них непредставима. Слишком велик был риск, на который они шли, слишком
высокого душевного напряга он требовал.
Так что, выйдя на поле аэродрома, они могли уже идти только до конца. До
полного признания. Да, да, признания! Они ведь тоже кололись, и еще как!
Когда я сказал, что они держались прекрасно, я имел в виду именно их
показания. Они не молчали, не скрывались, они открыто декларировали свое
намерение похитить самолет, угнать его через границу, улететь в Израиль.
При том, что за это им угрожал расстрел! И все равно никто из них даже не
пытался извиняться, оправдываться, крутить. Их „признания" были, по
существу, декларациями сионизма. Это и сделало их процесс героическим.
А процессу нашей организации просто повезло, что он прошел в тени
„самолетного". Ему и в другом повезло — за то время, что шло следствие,
обстановка в целом весьма динамично менялась. Я сказал, что КГБ выиграл
свою битву с арестованными, это верно, но власти в целом свою битву
проигрывали. Шум протестов и требований свободы выезда стал просто
оглушительным. Даже находясь в камере, изолированный от всего мира, я
ощущал, что у КГБ под руками разваливается задуманная им стратегия.
„Самолетчиков" выделили в отдельный процесс, часть комитетчиков увезли в
Кишинев, рижан не привезли в Ленинград совсем, и выяснилось, что
кишиневский и рижский процессы пройдут отдельно. Грандиозный спектакль не
получался. Чувствовалось, что что-то меняется, но все равно — когда в
конце следствия, в ноябре, мой следователь вдруг мне заявил: „Ну, вот,
отсидите срок и уедете в свой Израиль" — я просто обалдел. Уеду?! Честно
говоря, в реальность выезда мы никогда не верили. Израиль был для нас —
ну, как Рио-де-Жанейро для Оси Бендера: голубая мечта, к которой нельзя
даже прикасаться грубыми лапами реальности. И вдруг, после 5 месяцев
допросов, услышать такое в кабинете следователя!..
Но в скорости я получил вести еще более конкретные. Ко мне пришел
тишайший, зашибленный, обезьяноподобный еврей, назвавшийся моим адвокатом,
и сразу сообщил, что помочь мне ни в чем не сможет, мою версию непризнания
вины поддерживать не будет (ведь я единственный „не признающийся" во всей
компании), но... и, прижав палец к губам, протянул мне скомканную бумажку,
на той бумажке было написано: „Свечинский, Гельфонд, Бродецкая и
Спиваковский — выехали"! Я эту обезьяну чуть не расцеловал! Каждый день он
приносил все новые имена... Список свидетелей, подлежавших вызову в суд,
редел с каждой неделей. Евреи едут! Победа!
Грустно было только, что близящийся суд ничего хорошего к этой победе не
прибавлял.
Ну, дальнейшее, как говорится, известно. Я хотел бы задать последний
вопрос. Вся эта ваша деятельность — дала она какие-нибудь результаты? У
вас были «продолжатели»?
Мне кажется, что прямых продолжателей не было. С организацией КГБ все-таки
покончил. Кто был строптив — получил разрешение на выезд, остальные —
испуганные и разочарованные — отошли от всех дел. Но, может, я излишне
пристрастен, возлагая всю вину на низкий уровень нашего процесса. Наверно,
это ни чья ни вина, а естественная закономерность. Бывшие подпольщики,
по-моему, просто не могут быть ведущими в эпоху открытых действий
(диктаторы это хорошо знают: Сталин, Гитлер, Кастро перебили всех своих
товарищей по подполью). Да и вообще — общественные движения, я думаю,
описываются, скорее, уравнениями турбулентного течения, и попытки
какой-либо ламинарной, линейной апроксимации всегда недостоверны. Резкие
изменения характеристик такого турбулентного течения могут зависеть от
чисто местного, бокового завихрения. Ленинградское еврейское подполье, его
арест и процессы создали такое завихрение.
В каком бы виде это ни подавали газеты, сыграло роль российское недоверие
к официальному печатному слову — не поверили, что все было так уж
нехорошо, зато узнали, что была организация. Всех ведь все равно не
посадили, остались люди, которые рассказывали, как это было, повысился
интерес, стали расспрашивать: а что была за организация, а чем она
занималась, а что — были кружки, изучение иврита, истории? — давайте будем
продолжать. Поначалу, конечно, была некоторая растерянность, ждали
массовых репрессий, но когда очухались — пошли уже в открытую. И потом —
сами процессы вызвали поток писем протеста, вопли и требования, подняли
еврейское лобби на Западе...
Ну, все это вместе и пробило, в конце концов, брешь в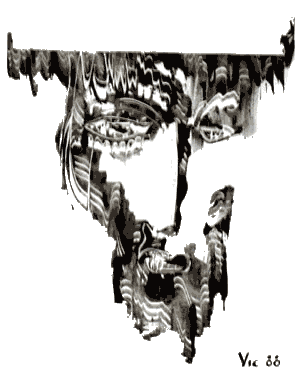 советской стене. Но
только все вместе, и главным образом — эти открытые, массовые действия. А
не само по себе подполье. Когда три года спустя я вновь оказался в
Ленинграде, то в короткий трехмесячный период между освобождением из
лагеря и отъездом мне довелось побывать на нескольких проводах
„отъезжающих". Там я увидел сотни людей, на месте загоравшихся мгновенным
энтузиазмом, желанием тоже уехать. Год функционирования подпольной
организации не мог бы дать того, что давали одни такие „проводы". советской стене. Но
только все вместе, и главным образом — эти открытые, массовые действия. А
не само по себе подполье. Когда три года спустя я вновь оказался в
Ленинграде, то в короткий трехмесячный период между освобождением из
лагеря и отъездом мне довелось побывать на нескольких проводах
„отъезжающих". Там я увидел сотни людей, на месте загоравшихся мгновенным
энтузиазмом, желанием тоже уехать. Год функционирования подпольной
организации не мог бы дать того, что давали одни такие „проводы".
Это была уже новая эпоха?
Это была уже совсем новая эпоха. „У каждой эпохи свои вырастают леса..." Я
эти „новые леса" знаю лишь понаслышке и судить о них не берусь. Но в
целом, я думаю, эпоха массового выезда, которую я увидел лишь краешком не
слишком трезвого глаза, дала неплохие результаты. Когда-то, лет 18 назад,
мечтая об алие из Союза, мы пытались представить себе, каковы могут быть
ее масштабы. Я тогда полагал, что максимальный потолок — 10%. Сегодня эти
10% уже здесь.
Я понимаю, что сейчас выросло уже новое поколение. И у них есть новые 10%.
Дай им Бог удачи!
Могу только присоединиться к этому пожеланию...
Вел интервью Р. Нудельман
*
Кстати, термин „возрождение" в данном случае никакого отношения к
французскому „Ренессансу" не имеет. Ренессанс, на самом деле, ничего и не
возрождал. А то, что мы называем „возрождением", точнее всего
соответствует итальянскому „Риссорджименто", обозначившему эпоху
национально-духовного подъема итальянской нации. На иврите аналогичное
слово служит названием партии „Тхия". Вернуться
К ПРОДОЛЖЕНИЮ 1 |
 Виктор
Богуславский - архитектор, художник, публицист - родился 24 мая 1940 г. в
Ленинграде.
Виктор
Богуславский - архитектор, художник, публицист - родился 24 мая 1940 г. в
Ленинграде. 
 Духовная
независимость, автономность Виктора выручила его и на этот раз. Когда он
понял, что это — его путь, он пошел по нему без оглядки. Так был создан
Баркан, трудно, твердо, без колебаний, без мельтешни. Виктор, наконец,
получил заслуженное право на планировку всего поселения, в целом. Вот
почему Баркан так просторен, обаятельно красив, своеобразен. Он ничем не
напоминает квадратную простоту стандартизованных поселков. Виктор сам
реализовал свой изысканный замысел, расположив дома поселка в форме
древесного листа, так, что они не затеняют друг друга и раскрывают свою,
приспособленную к человеку, уместность и захватывающую красоту окружающего
пейзажа ненавязчиво и нестесненно. Так жил и сам Виктор — никогда не
жаловался, не мстил, не стеснялся и не стеснял. Видел красоту вокруг себя
и давал другим ее увидеть. И всегда шел своей дорогой, не останавливаясь
на полпути.
Духовная
независимость, автономность Виктора выручила его и на этот раз. Когда он
понял, что это — его путь, он пошел по нему без оглядки. Так был создан
Баркан, трудно, твердо, без колебаний, без мельтешни. Виктор, наконец,
получил заслуженное право на планировку всего поселения, в целом. Вот
почему Баркан так просторен, обаятельно красив, своеобразен. Он ничем не
напоминает квадратную простоту стандартизованных поселков. Виктор сам
реализовал свой изысканный замысел, расположив дома поселка в форме
древесного листа, так, что они не затеняют друг друга и раскрывают свою,
приспособленную к человеку, уместность и захватывающую красоту окружающего
пейзажа ненавязчиво и нестесненно. Так жил и сам Виктор — никогда не
жаловался, не мстил, не стеснялся и не стеснял. Видел красоту вокруг себя
и давал другим ее увидеть. И всегда шел своей дорогой, не останавливаясь
на полпути.
 А потом, после Сталина, наступило затишье?
А потом, после Сталина, наступило затишье? А чем же занималась ваша, ленинградская организация?
А чем же занималась ваша, ленинградская организация? А по-разному. Кое-кто случайно оказался в связи с людьми из прежних
сионистских центров. В Ленинграде еще оставалось несколько стариков,
которые сохранили именно сионистскую, а не просто еврейскую
вдохновенность. В целом евреи 60-х годов очень смутно представляли себе
сионизм. Советская пропаганда тоже тогда о нем не кричала. Я помню, что
когда в детстве услышал слово „сионизм" и спросил отца (который происходил
из бедной кременчугской еврейской семьи), что это такое, он мне ответил:
„Это фантазии разных богатых евреев, которым нечего было делать..." А
когда я спросил о том же его друга, который, напротив, происходил из
богатой кременчугской еврейской семьи, тот сказал: „Сионисты? Это были
голодранцы, которые не умели работать и поэтому занимались политической
болтовней..." Вот такое представление о сионизме было передано нашему
поколению.
А по-разному. Кое-кто случайно оказался в связи с людьми из прежних
сионистских центров. В Ленинграде еще оставалось несколько стариков,
которые сохранили именно сионистскую, а не просто еврейскую
вдохновенность. В целом евреи 60-х годов очень смутно представляли себе
сионизм. Советская пропаганда тоже тогда о нем не кричала. Я помню, что
когда в детстве услышал слово „сионизм" и спросил отца (который происходил
из бедной кременчугской еврейской семьи), что это такое, он мне ответил:
„Это фантазии разных богатых евреев, которым нечего было делать..." А
когда я спросил о том же его друга, который, напротив, происходил из
богатой кременчугской еврейской семьи, тот сказал: „Сионисты? Это были
голодранцы, которые не умели работать и поэтому занимались политической
болтовней..." Вот такое представление о сионизме было передано нашему
поколению.  Однако в общем такие „возвращенцы в религию" были в те годы весьма
малочисленны, и не только в Ленинграде, но и в той же Риге, и в Москве. Мы
в достаточной мере ощущали себя евреями, не испытывая никакой нужды в
каких-либо „курсах повышения" своей еврейской квалификации. Да и сам пульс
тех дней был так напряжен, так насыщены были те дни конкретными событиями,
что никак не мог возникнуть настрой для размышлений о трансцендентных
сторонах бытия.
Однако в общем такие „возвращенцы в религию" были в те годы весьма
малочисленны, и не только в Ленинграде, но и в той же Риге, и в Москве. Мы
в достаточной мере ощущали себя евреями, не испытывая никакой нужды в
каких-либо „курсах повышения" своей еврейской квалификации. Да и сам пульс
тех дней был так напряжен, так насыщены были те дни конкретными событиями,
что никак не мог возникнуть настрой для размышлений о трансцендентных
сторонах бытия.
 Короче, как сказал марктвеновский нищий: мне не повезло — я вынужден
протягивать руку к людям, которым я бы ни за что не подал руки...
Короче, как сказал марктвеновский нищий: мне не повезло — я вынужден
протягивать руку к людям, которым я бы ни за что не подал руки... Как возникла идея с самолетом?
Как возникла идея с самолетом? восторгам
любви прилагаются ящики бриллиантов. Такое чтиво очень помогает сохранить
оптимизм, помогает, идя бесконечными тюремными коридорами из камеры на
допрос, напевать про себя русские вариации на мотив израильской песни
„Бывали времена....": „мы пронесли свою мечту сквозь волчий вой, мы на
допросы выходили, как на бой, вдали от родины мы жили лишь одним — айю
зманим, айю зманим..." — и войдя в кабинет следователя, нагло „вешать
лапшу" ему на уши.
восторгам
любви прилагаются ящики бриллиантов. Такое чтиво очень помогает сохранить
оптимизм, помогает, идя бесконечными тюремными коридорами из камеры на
допрос, напевать про себя русские вариации на мотив израильской песни
„Бывали времена....": „мы пронесли свою мечту сквозь волчий вой, мы на
допросы выходили, как на бой, вдали от родины мы жили лишь одним — айю
зманим, айю зманим..." — и войдя в кабинет следователя, нагло „вешать
лапшу" ему на уши.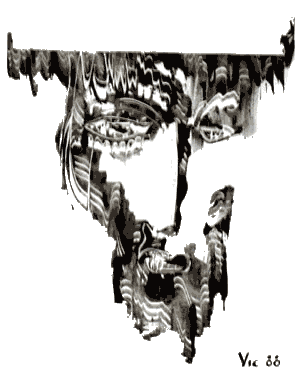 советской стене. Но
только все вместе, и главным образом — эти открытые, массовые действия. А
не само по себе подполье. Когда три года спустя я вновь оказался в
Ленинграде, то в короткий трехмесячный период между освобождением из
лагеря и отъездом мне довелось побывать на нескольких проводах
„отъезжающих". Там я увидел сотни людей, на месте загоравшихся мгновенным
энтузиазмом, желанием тоже уехать. Год функционирования подпольной
организации не мог бы дать того, что давали одни такие „проводы".
советской стене. Но
только все вместе, и главным образом — эти открытые, массовые действия. А
не само по себе подполье. Когда три года спустя я вновь оказался в
Ленинграде, то в короткий трехмесячный период между освобождением из
лагеря и отъездом мне довелось побывать на нескольких проводах
„отъезжающих". Там я увидел сотни людей, на месте загоравшихся мгновенным
энтузиазмом, желанием тоже уехать. Год функционирования подпольной
организации не мог бы дать того, что давали одни такие „проводы".