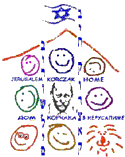См. также на нашем сайте:
|
| |||||
|
К концу рабочего дня нестерпимо болит сердце. То был
участившийся в последнее время невроз. Медленно, боясь сделать резкое движение,
Лина бредет домой. Так осторожно, страшась оступиться, ходят глубокие старики.
Она и чувствовала себя очень старым человеком, давно уставшим жить. По дороге
домой заходит в гастроном, покупает продукты, готовит для дочки ужин, и день
кончается. Самой есть не хочется, вызывает отвращение даже запах пищи. От
недоедания кружится голова, а ночью лежит без сна. «Уснуть, уснуть, — твердит себе Лина, — завтра рано вставать на работу. Вот так и буду коротать время до пенсии, а там старость, маразм и унылый дом для престарелых. В комнате будет три-четыре старухи и я — их козел отпущения. Никогда не умела постоять за себя, все это сразу чувствуют. В каком-то племени стариков сбрасывали со скалы в море. Так гуманней. Смерть — это пустота. Дыхание становится реже, еще реже, последний вздох, и ты растворишься в ничто, уплывешь в никуда. Тебя нет. Уже за полночь, а дочка еще не пришла. В последнее время она возвращается поздно, встречается со своим одноклассником. Что-то у них не клеится, приходит с замкнутым, жестким лицом. Хоть бы проводил он её, у нас такой темный безлюдный переулок». Лина прислушивается, не хлопнет ли дверь парадной. Тишина. Она постоянно боится за дочку, и сны тревожные снятся. Будто стоит она на старой, загаженной кошками лестнице в их доме, и держит Оленьку на руках. Хочет поставить её на ножки, ведь дочка уже большая. Нет сил держать, болят руки, спина, живот. Спустить на пол не решается, Оля поздно начала ходить. Но невозможно девочку держать на руках всю жизнь, так она никогда не станет самостоятельной. Лина ставит её на лестничную площадку и Оля тут же падает со щербатой каменной лестницы. Лина бежит следом, поднимает — мертва. Прикладывает свой рот к её губам – вдувает жизнь. Господи! Помоги! Стук парадной двери. Проходит несколько мгновений, наконец, в замке поворачивается ключ. — Котенька пришел! — радуется Лина. — Отстань! — бросает дочка, проходит в грязных сапогах на середину комнаты, кидает сумку в угол и стаскивает с себя куртку. — Поешь что-нибудь, рыбу или сырники, я сейчас чайник поставлю. — Отстань, говорю, лучше купила бы мне импортные джинсы. — Ты же знаешь, цена джинсов — моя месячная зарплата. — Это меня не касается! Другим родители покупают! — с ненавистью кричит Оля. Дочка быстро засыпает, а Лина лежит и смотрит в черноту ночи. Она думает о том, что не быть любимой и не любить - значит умирать. Но если уж не быть любимой, то хотя бы самой любить, и тогда одну и ту же ситуацию можно увидеть по-разному. Смотреть, например, на яйца, лежащие на подоконнике, и знать, что это всего лишь несвежие яйца, которые стоят девяносто копеек десяток, а можно вообразить, что завтра из них вылупятся и разлетятся по комнате разноцветные сказочные птицы. Лина пытается оживить в памяти впечатления симферопольской конференции. Грузинский князь — худенький, с тонкой ребячьей шеей, он в серых брюках и светлой рубашке с закатанными рукавами, и глаза - не то серые, не то голубые, волосы легкие, вьющиеся. Смотрит и грустно улыбается... Георгий рассказывал, что недалеко от деревни Кавтесхеви, откуда он родом, раскопали древний храм, то был храм огнепоклонников. Он говорил, а Лина представляла жизнь людей более чем четырёхтысячелетней давности. Обычно реликвии старины мы видим в музее застекленными или огороженными натянутой бечевкой. Георгий ходил по раскопкам, и Лина мысленно следовала за ним. Они вместе стояли на земле, где очень давно, задолго до единобожия, жили люди... «Солнце садится за гору, окрашивая золотистую степь мягкими оранжевыми тонами... И мы, правда, в другом обличье, смотрели на точно такой же, как сегодня, закат». - По срезу раскопок — рассказывал Георгий, — видно, что храм едва засыпан: дёрн возвышается над верхней кромкой стены не более чем на несколько десятков сантиметров. Стены из крошащихся в руках больших кирпичей. Говорят, эти кирпичи месили с навозом. Целый лабиринт освобожденных от земли помещений, и чтобы не потеряться, нужно привязать у входа нить Ариадны. В центре возвышается выложенный из камней закопченный алтарь. Здесь разжигали костер, и пламя поднималось к небу. Огнепоклонники чтили вечно живой огонь наравне с Богом. Лина видит себя рядом с Георгием, в жаре огня чувствует и его тепло. «Сколько раз нам нужно было встретиться в разных воплощениях, чтобы мне снова узнать тебя…» -У нас в Грузии — говорил Георгий, — всё перемешано: язычество, огнепоклонничество, христианство. До сих пор в день Святой Марии тащат на заклание упирающегося барана с красным бантом. Лина вспоминает рассказы Георгия, и мысленно следует за своим гидом в зал, где зарыты кувшины из красной глины. Над землей высовываются только горловины с античным орнаментом. Здесь была кладовая. Рядом, в соседнем помещении, в два ряда лежат огромные черные камни. На них, в углублениях, покоятся такие же черные плоские камни. Это жернова, между ними растирали пшеницу. «Казалось бы, всё понятно – человек рождается, живёт, умирает. Смена веков, поколений. Непонятно только, куда девается накопленное веками страдание. Не все ли равно, в чём и как хранить вино: в глиняных ли кувшинах, стекле ли, в бочках, — и какая разница, каким способом превращать пшеницу в муку. Главное — чувства человека, ведь они делают нас счастливыми или несчастными. От обожествляемого первоначала — земли, воды, огня — к множеству богов и к единому Богу. Не помню, кто это говорил: «Я верю в Солнце, даже если оно не светит, я верю в любовь, даже если ее нет, я верю в Бога, даже если мир не совершенен». В противном случае незачем жить. Да и не может быть у человека потребности в том, чего нет — потребности в Боге и любви. Я придумываю и тебя и любовь; в сплетении облаков вижу твое лицо, в шорохе деревьев слышу твое дыхание. Любовь, как и душа, бессмертна, она перетекает из одного человека в другого, и объединяет всех. Самое страшное — ощущение пустоты, будто спиленный лес, одни пни торчат, и нет дерева, к которому можно было бы прислониться. Закрываю глаза и представляю раскидистую сосну на вершине горы. «Почему дерево самодостаточно?» — спрашиваю я у кого-то, и слышу ответ: «В дереве сливаются две любящие души». Может быть, мы уже были с тобой прекрасной гордой сосной и снова пришли в мир для новых испытаний?» «С работы нужно увольняться»,- в который раз думала Лина. Здесь ни интереса, ни свободного времени, и деньги не Бог весть какие. Самое главное - трудно чувствовать себя идиотом. Утро начинается с визита начальника. Сухой, с землистым лицом, он неизменно появляется на пороге и подаёт голос, по ответному отклику проверяет, все ли на месте. Никому и в голову не приходило, что этот, всё более усыхающий и сереющий кормчий с большим партийным стажем, может уйти на пенсию. Изредка он собирал что-то вроде производственного совещания, долго и утомительно говорил, сосредоточиться на его монотонном пустословии невозможно; сотрудники называли его «автоинформатором». К Лине «автоинформатор», испытывал особое пристрастие, поручал ей всё больше техническую работу: перебирать анкеты, печатать на машинке, связаться с кем-либо по телефону. «У нас тут науку не делают», — язвительно говорил он, подчеркивая ее профессиональную непригодность. Лина не переставала искать работу, где бы хоть как-то сгодиться по специальности: звонила, ходила, спрашивала у знакомых. Но всякий раз, как морской волной, снова и снова отбрасывало в фирму «Рога и копыта». И чем больше рвалась уйти, тем очевидней становилась бесплодность поисков. Вспоминался давнишний эпизод в детских яслях, куда она привела дочку в первый раз. Все дети сиротливо сидят на стульчиках и смотрят глазами маленьких арестантов, понявших, что плачь - не плачь, ничего не изменишь. Только Оленька плачет. «Новенькая, привыкнет», — отмахивается воспитательница. Все понятно, другого выхода нет, кроме как смириться. И в концентрационных лагерях живут люди. Только напрасно Бог посылает человеку непосильные испытания. Всевышний тем самым теряет собеседника, ибо безразличие приговоренного - не лучший стимул для диалога. Снова бы ушла в пожарники или ночные сторожа, но нужна была справка с более или менее солидного места работы для защиты диссертации. Справку она получила, обманув начальника, сказала - для домоуправления, а то бы не дал. И поехала Лина в Тбилисский университет защищаться. Именно защищаться. Члены ученого совета пересмеивались по поводу того, что каждый вопрос диссертантка воспринимает как враждебный выпад. — Не бойтесь, — говорил Георгий, с которым познакомились на той конференции, что стала подарком судьбы, — здесь ваши единомышленники, значит друзья. Не случайно же единственная международная философская конференция в нашей стране была именно в Тбилиси. В Москве тема бессознательного не проходит, а у нас она составляет основную проблему исследований, как в философии, так и в психологии. В сборнике по материалам конференции напечатана и ваша статья. И все-таки Лина не могла поверить в доброжелательность, особенно, когда дело дошло до анкетных данных. Каково же было ее изумление, когда никто не обратил внимание ни на национальность, ни на отсутствие партийности. — Так не бывает, — сказала она Георгию. — Наоборот, так должно быть, у нас даже ректор беспартийный, а что касается национальности, в Грузии никогда не было антисемитизма. Тбилиси представлялся Лине землей обетованной, она будто узнавала мягкий жар летнего солнца, высокое синее небо с редкими облаками, темноволосых красивых людей. Казалось, она уже была здесь, а может, в Тбилиси жили ее давние предки. В Библии, в книге Бытия сказано, что в Иберии, то есть в Грузии, расселялись сыны Симовы. Евреи же принесли в Грузию единобожие, а затем христианство. Первые проповедники пришли сюда не из Византии, а из Иерусалима. Может быть, поэтому, одна из особенностей национального самосознания этого народа — ветхозаветное личностное общение с Богом. Зло в мире, в отличие от русских, грузины не объясняют непостижимым Божьим промыслом, а отдают в ведомство злому духу — дьяволу Саламану. Творец позволил людям самим расправиться с дьяволом; должно быть, этим объясняется воинственный дух этого народа. Не терпимость, а непокорность спасла Грузию от многовековых истребительных набегов мусульман. Человеку дано право на борьбу, это и есть его свобода, спасение души. День защиты был самым радостным днем в Лининой жизни — то был праздник признания. Десять лет пролежавшая диссертация нашла, наконец, ценителей. — Вай! — говорили грузины. — Если женщина такой умный, что должен делать мужчина?! Легко быть умной, когда тебя слушают. Лина чувствовала аудиторию по шелесту переворачиваемых страниц, скрипу стульев, по дыханию, и, уж конечно, по глазам присутствующих. По мере того как она говорила, глаза членов ученого совета становились внимательнее, теплее, один раз ее даже прервали аплодисментами. — Вы мужественная женщина, и мне нравится, как вы точно и кратко формулируете свои мысли, — подошел после защиты Георгий, и неожиданно поцеловал. Легкое прикосновение сухих губ к щеке было настолько призрачным, что потом, стараясь вспомнить это ощущение, Лина сомневалась, а было ли оно на самом деле. Подходили другие, обнимали, поздравляли. Лина едва сдерживалась, чтобы не броситься им на шею. «Какие все добрые, - оглядывалась она вокруг, - разве на московской кафедре эстетики так смеются, там если и улыбаются, то ориентируясь на зава – не разгневать бы. Всякий раз как попадешь туда, чувствуешь себя словно оплеванным». Вечером Лину пригласили на банкет, отпраздновать её защиту. Она сидела за столом, уставленным экзотическими яствами, и от волнения не могла есть. Чего только там не было: хачапури, сулугуни, жареные куры, заливной поросёнок, горы зелени и бочка вина. Георгий — тамада, говорил о том, что диссертант принес им много радости, и о том, что в женщине редко сочетается женственность и мужская ясность ума. Не случайно же философия — занятие для мужчин. Когда все опьянели, Георгий ловил в объектив фотоаппарата ее лицо и всё никак не нажимал на спуск. Лине подумалось, что ему не нравится застывший на её лице плач. Она постаралась сделать беспечный вид — не получилось. Они смотрели друг на друга, и на мгновение представилось, что ей дозволено любить этого человека, и тут же почувствовала, как сдвигается в ответной улыбке скорбная складка рта, затеплились глаза — Георгий щелкнул фотоаппаратом. - Вот и хорошо! — победно воскликнул он. Мужчины пели. Слов Лина не понимала, но напевы эти всю жизнь, казалось, носила в себе. То была даже не песня, а многоголосая молитва. Так же стонала, жаловалась, недоумевала и прорывалась из горестного оцепенения бабушка. Грузинская песня — разговор со Всевышним один на один. Каждый из нас в этой жизни совершает выбор. Каждый из нас — призванный Творцом Авраам. …Пески, пустыня, ветер задирает седую бороду Авраама, ему легче вылить в раскаленный песок остаток воды и умереть от жажды, чем лишиться долгожданного сына. Ночью он прижимает к себе Ицхака: живое тепло, продолжение своей жизни. Как нужно верить, чтобы выбрать не сына, а Бога — Бога сделать продолжением своей жизни. А вдруг... И Авраам - человек, и ему ведомо сомнение. Но Авраам идет по пустыне и ведет на заклание Ицхака — и так три дня и три ночи. Утром следующего дня Лина пришла на кафедру подписывать бумаги. Никого, кроме лаборантки, высокой, гибкой молодой женщины с тонким лицом и большими темными глазами, в комнате не было. Коротко стриженые волосы придавали восточной красавице европеизированный вид. — Калбатоно (госпожа) Лина! — воскликнула лаборантка и пошла ей навстречу. «Неужели в самом деле рада мне?» — удивилась та. — Заходите, будем с вами пить кофе, а то мне одной не хочется. Вчера было много народу, мы не познакомились, меня звать Натия. А о документах не беспокойтесь, я всё сделаю, напечатаю протокол защиты, соберу подписи. — Спасибо! Большое спасибо! — Сегодня суббота, вряд ли кто-нибудь придёт, а в понедельник заседание кафедры, все будут в сборе. Вы надолго к нам? — Сегодня уезжаю. — Почему сегодня?! — В понедельник нужно быть на работе. — Жаль, — опечалилась Натия. Снова Лина подивилась доброжелательности незнакомой женщины. Кофе пила медленно, не хотелось уходить; в этой комнате часто бывает Георгий. Не хотелось уходить из университета, где даже ректор беспартийный, и вообще не хотелось уезжать из города, в котором никогда не звучал клич: «Бей жидов! Спасай Россию!» Лина медленно спускается по широкой, из красного гранита лестнице, вот уже остался за спиной барельеф Шота Руставели, еще шаг, и еще на одну ступеньку ближе к выходу. Она не смотрит на высокую дверь, за которой улица - и конец надежды еще раз увидеть Георгия. Поднимает глаза: он идет навстречу. Радостная улыбка. Всего лишь миг. Не нужно ни о чем говорить. Потом он словно стряхивает наваждение, отступает, гасит бездумный порыв, они обмениваются ничего не значащими словами. Георгий поднимается по лестнице вверх, а она спускается вниз. Вот уже захлопнулась за ней тяжёлая входная дверь. На улице зябко, хоть солнце яростно жарит асфальт. Прохожие то и дело отирают пот и пьют из фонтанчиков воду. Лина высматривает среди идущих навстречу мужчин, кто бы хоть чем-то был похож на Георгия: голубизной глаз, худощавостью и лёгкостью мальчика-подростка. Когда она успела привязаться к нему? Вспомнился случай: шла однажды на работу, по дороге зашла в магазин - купила мясо. У помойных баков, мимо которых проходила, собака искала и ела отходы. «Иди, мясо дам», — собака подняла морду, но подойти не решалась. Посмотрела, и снова стала искать в помойке, вынюхивать съестное. Лина развернула пакет, вытащила кусок мяса и протянула собаке — та осторожно подошла, понюхала и деликатно взяла, смотрела робко, любяще. Когда возвращалась с работы, собаки той на помойке не было. Оглянувшись, нашла - она стояла чуть поодаль в ожидающей стойке. Лине показалось, что собака ждала её. Снова развернула пакет, но та не обратила внимание на мясо, она искала взгляда непривычно доброго к ней человека. Лине стало стыдно смотреть ей в глаза, ведь она сейчас уйдет и не возьмет её с собой, и потому не протянула кусок, как сделала это утром, а положила на тротуар. Собака понуро стояла и даже не подошла к мясу, она поняла, - её не возьмут. Лина уходила. Оглянулась. Собака смотрела вслед. Последний взгляд Георгия был виноватый, смущенный; на ту бездомную собаку она смотрела так же. «Оживи дерево! Оживи! Слышишь, — кричу я вверх, — оживи! Я люблю тебя! - Далеко вверху качнулась крона сосны. — Оживи, тогда ты опустишь ко мне ветки и поднимешь к небу, я буду ты, я буду в тебе, мы будем одно живое дерево под дождем и солнцем… Мечта и реальность». Как-то в юности, то ли в седьмом, то ли в восьмом классе сидела дома за столом, потом положила голову на сложенные руки, и уснула. Приснилась музыка. Сначала тихая, потом громче, громче. Музыка заполнила собой комнату и повлекла за собой. «Наверное, я сплю и мне снится сон, — благоразумно уговаривала себя Лина. — Радио выключено. Откуда же эта удивительная музыка? Она сильнее меня, и ей невозможно сопротивляться. Нужно сделать над собой усилие и проснуться. Чем настойчивее я себе это говорила, тем сильнее овладевала мною музыка. «Проснуться, проснуться, — твердила я, — так не бывает». И усилием воли открыла глаза. В тот же миг почувствовала свои затекшие сложенные на столе руки, лежащую на них тяжелую голову и тишину. Ничего кроме ужасающей тишины. Снова положила голову на руки и поспешила закрыть глаза, чтобы снова услышать музыку. Но увы, была все та же, пугающая своей пустотой, тишина.» Всё не могу забыть этот случай, думаю: не было бы у меня этого исследовательского инстинкта, желания узнать что отчего происходит, не заставила бы я себя проснуться, и тогда, может, услышала бы что-то самое главное. Чтобы вернуться в реальность, нужно сделать над собой огромное усилие. А нужно ли возвращаться?» Защита диссертации - полдела, её еще нужно утвердить в высшей аттестационной комиссии, где мог сказать свое увесистое слово Чингисхан от эстетики - заведующий кафедрой Московского университета. «Да не будет он выступать против нас, не станет поднимать скандал — говорили грузины, — не дать ученую степень значит - публично оскорбить ученый совет». На всякий случай, вставили в текст диссертации несколько цитат Маркса, Ленина и приложили две дополнительные докторские рецензии. Лина в самом деле получила диплом кандидата, казалось бы, дававший больше прав на работу по специальности. И снова она, как лошадь с завязанными глазами, стала ходить по кругу, по тем же самым НИИ в поисках работы. В институте философии нос к носу столкнулась с завкафедрой Московского университета - и отвернулась, не смогла заставить себя поздороваться. Слово «здравствуйте» - не пустой звук, в него вкладывается отношение к человеку, пожелание здравия. Глава московской эстетики был обескуражен, нечасто бесправные люди позволяют себе роскошь выказывать свое отношение к нему. — Вы еще скажите спасибо, — бросил он Лине вслед, — что не сорвал вам защиту, а мог бы. «Сейчас нужно говорить спасибо, что оказался не последней сволочью», — хотела было ответить Лина, но промолчала, духу не хватило. Вот и попробуй, возлюби ближнего своего. «Не так уж он сух и бесстрастен», — думала она о заве, идя по длинному коридору Института философии. Когда подошла к нему первый раз с просьбой о прикреплении к аспирантуре для защиты уже готовой диссертации, он поспешно стал искать в карманах очки. Нашел, надел, вгляделся и только тогда пригласил в свой кабинет, в глазах появилось очень даже откровенный интерес. - Конечно, конечно, — говорил владыка российской эстетики, — мы вам поможем защититься, — и даже не взглянул на оглавление протянутой ему диссертации. В течение года, пока сдавала кандидатские экзамены, он словно чего-то ждал. На кафедре, как о страшной тайне, шепотом, с оглядкой говорили о том, что зав запирается с аспирантками в своем кабинете. «Что он с ними делает? — усмехались преподаватели. — Разве что на церебральном уровне». Аспирантки таким образом подтверждали свою верноподданность и быстро защищались - выходили в дамки. Особенно преуспевали иногородние, москвичкам не так уж и важно - годом раньше или позже - получить диплом. Не могла Лина представить себя в объятьях этого паука. Органически не могла. Может, срабатывал инстинкт самосохранения. После подобной пакости стало бы нечем жить. Линин рецензент на московской кафедре, доброжелательный, но не одержимый извечной философской проблемой «быть или не быть», рассказывал ей: «Я пытался обратить внимание зава на достоинства вашей работы. Молчит. По правде говоря, дело, конечно, не только в вашей научной концепции. Не так уж его и занимает принцип научного мышления. К тому же он пропускал диссертации, в которых, даже при очень большом желании, не найдешь ни одной свежей мысли. Ладно бы кандидатские, но и докторские. Своя рука владыка, сам же их в ВАКе и подписывает. После вашей злополучной апробации объяснил свою позицию: «Человек, говорит, она подозрительный, не член партии, и вообще непонятно, чего от неё ждать. Сегодня она реабилитирует Фрейда, а завтра объявит, что не бытие определяет сознание, а наоборот». Бог дал человеку свободу воли, свободу творить добро и зло. Маленькому, сморщенному Чингисхану нужно ощущение своего могущества. Все зависят от него. Каин убил Авеля, и из века в век праведные Авели взывают к Богу о справедливости. Времена меняются. По радио, в газетах заговорили о «гармонически развитой личности», выползли на свет сведения о деградации населения: процент алкоголиков, морфинистов. И как следствие — умственно неполноценные дети, духовное оскудение молодежи. В самом деле, откуда ей взяться «гармонически развитой личности»? Как-то Лине довелось читать в вузе курс лекций по этике и эстетике. Преподавательница ушла в декретный отпуск, и ее взяли почасовиком на один семестр. — Да не заучивайте вы наизусть, — говорила она студентам, — поймите, мне совсем не нужно, чтобы вы цитировали Маркса и Ленина, мне нужно научить вас думать. — Двадцать лет только и делали, что отучали думать, сразу трудно перестроиться, — выразил общее мнение один из студентов. Вскоре понятие «гармонически развитая личность» сменилось «эстетически образованным человеком». Все заговорили об эстетическом воспитании. Экстремальное положение: философы, психологи, педагоги одну за другой организуют конференции по эстетическому воспитанию. Как донести до широких масс элементарную духовную культуру, ну хотя бы чувство совести, человеческого достоинства? Заговорили об инициативном творческом начале, без которого не может состояться личность. — Что ты сидишь? — спрашивали Лину знакомые. — А что нужно делать? — Ищи перспективу. Сейчас новые идеи. — Идеи новые, люди старые. На трибунах бил себя в грудь сотрудник лаборатории коммунистического воспитания Володин, взывал, что пора взяться за ум, великая русская культура гибнет. Русский человек — это не какой-нибудь торгующий мандаринами нацмен с рынка. «Но культура других народов не менее великая, — думала при этом Лина. — Не более ли плодотворно ставить вопрос о том, в каких условиях живут национальные меньшинства Кавказа, если чуть ли не единственным способом реализации их активности оказалась торговля мандаринами». С Володиным Лина была знакома. Он перевелся в Москву из Вологды по непонятной «особой надобности». Когда-то давал ей читать свою докторскую диссертацию о коммунистическом воспитании молодежи. — Ну как? — спросил он с видом покорителя вершин, когда она возвращала ему рукопись. — Не о чем говорить. - То есть как? — Кроме давно навязшей в зубах марксистско-ленинской методологии и цитат вашего шефа здесь ничего нет. Воспитание — это, прежде всего, решение вопроса, как научить людей понимать и предпочитать духовные ценности, дать им представление о нравственной свободе, в противном случае - человек не состоится. Очень скоро Лине в который раз пришлось раскаяться в том, что не умеет держать фигу в кармане – о чём думает, то и говорит. Володин оказался партийным куратором в Институте мировой литературы, где зарубил ее большую статью для сборника. Отыгрался. Сейчас на конференции по эстетическому воспитанию, когда, казалось бы, появилась возможность цитаты заменить живой мыслью, Володину, как работнику идеологического фронта, дали первое слово. Вряд ли Лина узнала бы в обрюзгшем, разъевшимся чиновнике давнишнего знакомого, если бы не назвали фамилию. Расплывшееся красное лицо, толстые пальцы с врезавшимся обручальным кольцом и яркие полные губы. Он ассоциировался с вурдалаком, только что поднявшимся из-за кровавой трапезы. Удивительное дело - на лице ни одной мимической морщины. Лицо гладкое, как колено. Говорил громко, с пафосом, будто командовал батареей. Говорил вообще, и ни о чем в частности. Он деградировал. Лина подумала о том, что она тоже деградировала, только сгинули они по разным причинам. Она — оттого, что не имела возможности работать, он — оттого, что его сделали функционером от науки. «Но как бы мне ни было плохо, оказаться на его месте - еще хуже. Если не кривить душой, то плохо мне не оттого, что не могу найти работу, а потому, что не хватило ума понять что-то самое главное, делающее нас независимыми от внешних обстоятельств. Откровение ли нисходит на человека, или человек сам прорывается к просветлению. Все время такое ощущение, что ты должен успеть вычленить в природе людей сущностное, Божественное начало. Тогда сгинет Каин, и третий Храм не будет разрушен. Под идею эстетического воспитания в разных НИИ стали открываться соответствующие секторы. Открыли и в НИИ искусствознания, куда Лина вот уже в который раз отправилась в поисках работы. Конечно, она ни на что не надеялась, но все-таки шла. Шла, чтобы исчерпать ситуацию, дабы не винить себя в бездеятельности и нерадивости. — У нас много желающих, а вакантных мест нет, вернее есть, но очень мало, — сказал заведующий вновь организованного сектора, беспокойно оглядывающийся, давно немолодой человек. Лина поймала его, что называется на ходу, в вестибюле. Казалось, каждую секунду он ждет приказания броситься бежать на любую дистанцию, но не был уверен, хватит ли сил, если бежать придется далеко. Он напоминал хорошо выдрессированного, но уже старого, облезлого пса. По образованию экономист, а по каким соображениям назначен заведовать сектором эстетического воспитания, трудно сказать. — Хочу участвовать в честной конкуренции. Какие у вас требования? — готовая к бою, спросила Лина. — Ну, во-первых, мобильность профессии, — сказал только что утвержденный в должности зав, сказал так, словно раз и навсегда отсекал претензии незваного претендента. — Тогда я вне конкуренции, у меня публикации по философскому, психологическому, филологическому профилю, работала социологом, преподавала в вузе, правда, почасовиком и недолго. Разработала программу эстетического воспитания. Хотите посмотреть? — Действительно, вне конкуренции. Только всё равно не возьмем, — нервно дернулся зав и оглянулся. — Почему? — Есть указание директрисы, кого брать. Говорят, если все время бить по одному и тому же месту, там нарастает мозоль, и человек становится нечувствительным к ударам. Лина восприняла отказ как должное. От неё ничего не зависит, хоть разбейся головой о стену. Зав даже не взглянул на предложенную ею программу эстетического воспитания. Зачем, если всё равно выше распоряжения директрисы не прыгнешь? Усталость и апатия. Нет сил тащиться домой, ещё и ещё раз услышать от дочки, что ты отброс общества. Лина входит в ближайшую подворотню и обреченно опускается на грязную колченогую скамью. Мелькнула мысль попытаться поговорить с заместителем директора, он не раз предлагал оставить анкету. Мысль эта как-то сразу пропала. Никогда прямо не отказывающий, изысканно вежливый зам и сейчас скажет - оставьте анкету, принесите публикации. Давно сделала и то и другое. Не читал. «Хорошо, что от него жена ушла, — мстительно подумала Лина. — Говорят, она была очень молодая и красивая». Маленький двор окружен старыми потемневшими стенами многоэтажных, из красного кирпича домов. Взгляд упирается в мусорные баки, разбросанные вокруг бумажные пакеты из-под молока, старую ветошь, консервные банки. Валяется ботинок, еще крепкий, на толстой рифленой подошве. Такому сноса нет, но ботинок один. Тут же в луже после дождя лежит продырявленный матрас. Лина оглядывает его, и невольно появляется мысль перетащить его к себе, вымыть и спать на нём. Много ли человеку нужно — забиться в угол и чтобы его не трогали. Матрас узкий, наверное, какая-нибудь бабка на нем спала. Бабка умерла, матрас выбросили. «Но у меня же есть и угол, и на чем спать! — Осеняет Лину. — В чем же дело? И я жива, еще жива. И небо над головой, солнце, лужи после дождя». Лина поднялась и беспечно зашлепала по. лужам. Дошла до кафе и позволила себе неслыханную роскошь — двойной кофе. Гулять - так гулять! На радостях позвонила Саше, и тут же услышала его всегдашний вопрос: «Какие трудности?» — Никаких, все в порядке. — Да? — усомнился Саша и тут же добавил, — через час буду. Саша привык, что ему звонят в трудных ситуациях. На курсе, у кого что случалось, бежали к нему. Доброту его сразу чувствуют. Когда поднимались на гору в Армении, встретили человека, собирающего целебные травы. Человек тот пошел с ними, и всё время говорил о своих проектах переустройства общества, всех ругал жуликами и подонками. Был он явно не в себе, и из всей большой компании сразу потянулся к участливому Саше. Едва Лина успела прийти домой и прибраться в комнате, раздался нетерпеливый звонок. — Ну, что у тебя? — спросил Саша с порога. — Ты будто приехал по вызову скорой помощи, — засмеялась Лина. — Чай давай! Голодный, как волк, не успел в столовую забежать. Да не суетись. Чай и хлеб, больше ничего не нужно. Так что же все-таки случилось? — Расскажу. Собственно, и рассказывать нечего. Сейчас сварится картошка, будем обедать. Гость по-хозяйски оглядывает комнату, прибить ли чего, или починить недавно подобранные Линой с помойки книжные стеллажи. И тут же объясняет, почему Лину не берут на работу. — Дело не только в анкете, берут своих. Кому нужна твоя наука? У них свои игры. — Но замдиректора, хоть и не точно, но обещал, велел принести публикации. — А доклад он тебе не велел сделать? — Я делала. — Все правильно. Ты не первая и не последняя. Это у них такая манера, что-то вроде обмена опытом. Он любит поиграть, как кошка с мышкой. Сытый, равнодушный человек. Ты бы сходила в Министерство высшего образования, может, где-нибудь прорыв с эстетиками. — Была. — И что? - Всё то же. Спросили, о чем вы думали, когда защищались на звание кандидата философских наук, почему не вступили в партию. «О философии, говорю, думала». «Ну, это несерьезно, — ответили мне, — вы много себе позволяете. По правде говоря, непонятно, как вам вообще удалось защититься». Я сказала, что защищалась в Тбилиси. «Это другое дело, там и работу ищите, — ухмыльнулся тамошний чиновник, — в Тбилиси нет советской власти». Но как уедешь из города, где ты прожил всю сознательную жизнь. И дочка взрослая, насильно не увезешь. — Ну а дальше? На чём расстались? — «Ничем вам не можем помочь», - развел руками чиновник. — Показательный разговор, — заключил Саша. — Ты должна играть так, как того требует ситуация. Шахматы уже расставлены. А ты своевольничаешь, в партию не вступила и не подумала, что оскорбляешь тем самым окружающих. Мол, ты такая принципиальная, умная, а они говно. Все всё понимают, но подчиняются правилам игры. Лина принесла из кухни и поставила на стол кастрюлю с горячей картошкой. — Замечательно! — потирал руки Саша. — Давай скорей! Побольше клади! — Съешь — добавлю ещё, а то остынет. — Нет, сразу клади, люблю, когда в тарелке много, чтобы через край. — Саша тщательно разминает вилкой картошку, отрезает сало, кладет на ломоть черного хлеба, густо солит и с остервенением ест. — Хорошо у тебя, уютно. Ничего нет, а хорошо. Люстру сама, что ли, смастерила? — Ну да, из бисера. — Скажи пожалуйста, прямо антиквар. — И сало сама солила. Чуешь, с чесноком? — Похвасталась Лина. — То-то я смотрю, еда не магазинная, я такого шпика отродясь не ел. — Ну спасибо, уважил, — засмеялась Лина. — Да я серьезно. Напрасно ты в философию пошла, нужно было в повара или парикмахеры. Сейчас бы денежки пачками считала, и никаких забот. Вот уж не могу представить тебя считающей деньги, — расхохотался Саша. — Помнишь, у нас студенты по очереди на всю группу стипендию получали и раздавали по ведомости, а ты ни разу не раздавала, признали профессионально непригодной. Три раза пересчитаешь сто рублей и три раза получишь разную сумму. Все голову задираешь — журавля в небе ищешь. Я понимаю, тоскуешь. А люди просто живут, под ноги смотрят. Жизнь первична. — Человек должен реализоваться и в духовном плане, — мягко возразила Лина, — каждый должен отыскать своё место, которое связано с целью существования его души. — Ну, уж это роскошь. Не до жиру, — развел руками Саша. И тут же заговорил о том, что в Суриковском институте требуется эстетик. — Я только вчера об этом узнал. Художественный вуз, специалистов по творческому мышлению не так уж много, место прямо для тебя. — Пойду, но только для того, чтобы еще раз убедиться, что ходить не следовало. Снова не в силах отказаться от надежды, которая сильнее здравого смысла, Лина собирается на прием к заведующему кафедры философии Суриковского института. Они договорились по телефону о встрече в понедельник в семь часов. В шесть она кончает работу в фирме «Рога и копыта», и к семи как раз поспеет. В пятницу вечером Лина ходит по магазинам, ищет юбку. Ходит по любимому в студенческие годы маршруту: ГУМ, ЦУМ, Петровский пассаж. В ГУМе заглянула в зеркальную колонну. Вместо когда-то отражавшейся в этих зеркалах краснощекой сероглазой девицы, пришедшей сюда после стипендии покупать чулки, на неё смотрела поблекшая усталая женщина. На такую не оглянешься. Лина поспешно отвернулась, но в следующей зеркальной колонне, снова вглядывалась в свое отражение, стараясь хоть чем-то утешиться. Ничего утешительного не нашла. Из всех примеренных юбок ни одна не подошла: то коротка, то полнит, то какие-то нелепые складки на боку. «Ну что ж, отправимся в ЦУМ. Это даже хорошо, что здесь не купила, пришлось бы прервать столь занимательный маршрут». Пока шла к выходу, не выдержала искушения — заглянула в когда-то любимый отдел «Меха». Под стеклом висела норковая шуба с ценником «20 000». Двадцать пять лет назад такая шуба стоила две тысячи. Мелькнуло желание попросить примерить, но ей бы не дали, сразу видно — не тот клиент, да и не нужна она ей теперь. Слишком было бы нелепо: измученное, с глубокими морщинами лицо, и такая роскошная, праздничная шуба. Обойдя несколько магазинов, Лина так и не подобрала юбку, купила очень красивый голубой вельвет и решила - сошьет сама. «Длинная прямая юбка, и возьму у Оли её белую блузку - вполне элегантно. Ещё нужно будет сделать независимый вид». По дороге домой надорвала пакет и то и дело любовалась мягким пастельным тоном ткани. — Это ты мне? — спросила дочка, когда она сразу же разложила на столе материал и принялась кроить. — Себе, — бросила Лина. — А я думала, мне, — разочарованно протянула Оля. — Тебе зачем, ты ведь всё равно старая. — В понедельник иду устраиваться на работу, — не утерпела Лина и выболтала лелеемую надежду. — Ну-ну, — снисходительно усмехнулась дочка, — в который раз? Всё равно не возьмут, и новая юбка не поможет. Шла бы в прачечную, там, говорят, по триста рублей зарабатывают, тебе перед пенсией в самый раз. Я тебя кормить не собираюсь. — Да уж, — подтвердила Лина. — И хоронить на свои деньги не буду, так что позаботься о себе. — Не будешь. Оля тщательно красит глаза и уходит на свидание. В последнее время Лина часто возвращается к мысли о том, что похороны никем не любимого, ненужного человека — унизительная процедура. «Хорошо бы попасть в катастрофу, да так, чтобы и костей не собрали. Только нужно успеть дочку на ноги поставить, дать ей образование. В конце концов, сделай триста рублей, которые платят в прачечной, её счастливой, я пошла бы туда работать, но деньги не имеют отношения к счастью. Самое необходимо у неё есть, остальное зависит от того, найдет ли своё дело в жизни.» За дверью скребётся безумная старуха с кошками. Аникановы уехали на дачу, и Лина осталась единственным объектом ее внимания. Когда-то они вместе даже чай пили. Те времена прошли. Теперь, когда старуха разбогатела - продала коллекцию старинных открыток своего покойного мужа, и продукты ей стали носить из фирмы добрых услуг, - с соседями можно не церемониться. Втихаря таскает к себе в комнату оставленные ими в коридоре половые тряпки, щётки для обуви. Ей кажется, - она бессмертна, и всё это ей ещё сгодится. Раньше почти деликатно подслушивала телефонные разговоры: тихонько приоткрывала свою дверь и выставляла в щель огромное, мертвенно белое ухо, а то и ухо прятала, и только по шевелению замызганной портьеры можно было догадаться: здесь она, слушает. Сейчас же, когда в прихожей звонит телефон, распахивает свою дверь настежь, и стоит, как изваяние, до конца разговора. Лина хотела выйти на кухню, чайник поставить, но раздумала - жутко открывать дверь, наткнешься на её блестящие в темноте, ненавидящие глаза, а то и припустится за тобой, как зверь за добычей. Тут уж невольно поспешишь спрятаться в свою комнату. В понедельник, как всегда в ситуации ожидания, Лина цепенеет от напряжения. Ничего не может делать, всё время смотрит на часы. Вот и конец рабочего дня в фирме «Рога и копыта». Зажав в кулаке бумажку с адресом Суриковского института, она отправляется в указанный там Товарищевский переулок. Адрес знает наизусть, но всякий раз проверяет, правильно ли идет. Кажется, будто в этом клочке бумаги - её спасение. Конечно же, пришла раньше времени. Прогуливается по малолюдному, с низкими уютными домиками старой Москвы переулку, в конце которого громоздится недавно выстроенное, нелепое здесь модерновое здание института. В частных домах прошлого века с лепными карнизами, мансардами, верандами, наверное, жилось вольготно. Представилась сидящая за вечерним чаем в гостиной большая семья, которой не нужно было решать непосильные жизненные кроссворды. Вот и она будет ходить по этому тихому, заросшему вековыми липами переулку, и читать студентам лекции; они вместе станут думать над философскими и психологическими проблемами творческого мышления. В искусстве ничего нельзя скопировать, на каждом произведении - печать его творца. Антон Павлович Чехов по этому поводу говорил: «Каждая собака должна лаять своим голосом, при этом маленькие собаки не должны смущаться наличием больших». Задача преподавателя - раскрепостить воображение, раскрыть неповторимое «я» каждого. «Размечталась, — одернула себя Лина, она чувствует своё лицо — застывшая маска. Должно быть, с такими лицами люди идут на казнь. - Нужно соблюдать спокойствие. Дальнейшие события не в твоей власти». Зав философской кафедры - высокий человек, с благообразным утомленным лицом – поднялся Лине навстречу. На столе лежала рукопись с недописанной страницей, тут же книги и журналы с закладками. Очевидно, работал. — Рад познакомиться, — приветливо улыбнулся зав, — тем более рад, что, судя по нашему телефонному разговору, вы могли бы преподавать эстетику с ориентацией на творческие муки студентов. Воодушевление зава возросло, когда он узнал, что Лина защищалась в Тбилиском университете. — Это бунт. Грузинская школа — бунт против рационального образа человека. Обратите внимание, что именно грузинам, защищенным горами Кавказского хребта, удалось спасти от заморозков Павловской сессии духовно цельного человека. Как я рад, что вы разделяете мое мнение! Нечасто встретишь единомышленника. Мы вас будем готовить на заведование кафедрой, я скоро уйду на пенсию, вот и займете моё место, — заметив Линино недоумение, продолжал, — не беспокойтесь, по возрасту вы уже вполне подходите. — Дело в том, что я не член партии. — М-да. Это меняет дело. — И еврейка. — Это совсем, совсем скверно. Поймите меня правильно, мой самый близкий друг - еврей... Может быть, у вас большой преподавательский стаж? Научного стажа тоже нет? — Линин единомышленник сник. — От меня так мало зависит. Вернее, ничего не зависит. И вообще, я очень устал, — проникновенно заговорил он, — устал ходить по проволоке. Два инфаркта. Жена за мной на работу приезжает, боится... — Спасибо и на добром слове, — У Лины не было сил подняться и уйти. Будь у этого умного, славного человека с нездоровым цветом лица всё хорошо, и ей стало бы легче. Наконец, она встала. — Спасибо за профессиональное общение, мне его очень не хватает. Работу Лина больше не искала. Прошло лето, зима, и снова весна — с грозами, запахом клейких тополиных листочков, прозрачной зеленью берез. Лина пытается разбудить в себе давнишние весенние ощущения радостных надежд и не может. Ждать нечего. Уйдя в себя, она зажила совсем уж отшельнической жизнью, и статьи не писались. Посредством одного лишь теоретического познания невозможен переход из области чувственно постигаемого мира природы в область умопостигаемого мира свободы. Эта мысль не нова, об этом писал Кант. «Если бы представилась возможность жизнь начать сначала? Что бы я могла изменить? Ничего». Это уже было однажды: девочка спешит к окну, ей не терпится узнать, что случилось за ночь, пока она спала. Струи дождя выхлёстывают из лужи фонтаны брызг, брызги шлёпаются о стекло низкого, у самой земли, окна, и скатываются грязными, тяжёлыми каплями. Лина всегда экономила время, боялась не успеть, пропустить что-то самое важное. Теперь знает – спешить некуда. В который раз ловит себя на том, что сидит в бабушкиной позе – сгорбившись, пригнув голову. Так сидят люди, ничего не ждущие от жизни. Бабушка, едва передвигаясь по комнате, всё время норовила что-то сделать, помочь. Она доедала чёрствые куски в доме: «Мне всё равно, что есть», - говорила бабушка с отрешённым видом. Лине вспомнилась зимняя ночь под Красноярском в эвакуации. Они вдвоём идут ночью по снежному полю, ветер заметает снегом едва различимую тропку. Вокруг черно, страшно. Страшно сбиться с дороги, страшно замёрзнуть, страшно встретить бандитов… Сколько поколений евреев прошло по России с единственной надеждой – только бы выжить. На стене рядом висят две фотографии: бабушка и Кант. Они похожи – неграмотная женщина из бедного еврейского местечка, и великий мыслитель. Оба согбенные, будто согнулись под непосильной работой жить, у обоих грустные всё понимающие глаза, одна тональность мировосприятия. Скорбь и сознание невозможности что-либо изменить написаны на их лицах. Всё, что от них зависело – сделали: бабушка прорвалась из своей горькой судьбы в доброту и любовь к ближнему, а Кант вывел свободу человека за пределы реальности, в трансцендентный мир. |
||||||
|
|
||||||