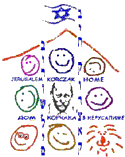МОЯ ОСЕНЬ
Приходит со снегом нежданная осень
Холодной рукою стучится в окно.
И всё, чем владел я от неба до сосен
Она превращает в пустое пятно.
Куда ты спешишь, осень праха и тлена?
Зачем загоняешь в свою пустоту?
Я слепок судьбы, а судьба неизменна,
Не тронь мою нежность, оставь мне мечту.
Дай песню допеть немоты и бездомья,
И холода призрак исчезнет как дым,
Но время придёт, и осенним листом я
Ещё закружусь над порогом твоим.
Перевод Марка Эпельзафта
К содержанию
* * *
Фонари роняют тусклый свет,
Аркадийских пляжей вьётся пряжа,
Виден беспорядка скорбный след
От застывших слёз на щеках пляжа.
И висят ножи прожекторов
Между небом и землёй, как стражи,
И дорожка в перекатах рвов
От луны сбегает прямо к пляжу.
Перевод Семёна Вайнблата
К содержанию
ПОЧЕМУ СТИХИ ПИШУ Я
От друзей нередко слышишь:
"Для чего стихи ты пишешь?
Сил они немало просят,
А доходов не приносят?"
Отвечаю: Стих мой рвётся
Из души моей колодца,
Иногда до слёз доводит -
Глядь: на сердце легче вроде.
Свет в душе своей бужу я,
Если слово нахожу я
То укора, то примера,
Чтоб проснулась чья-то вера.
Жизнь его всё лучше будет,
Благородней станут люди,
Если даже не вполне
Счастье улыбнулось мне.
Перевод Бориса Дегтяря
К содержанию
МОЙ ДУНАЕВЕЦ
Мой Дунаевец, моё местечко.
Домики, лесок, детишки, речка.
Я скучаю по тебе, как по сыночку,
Рана в сердце залегла навечно.
Первая учительница, школа.
Побывал я там недавно снова.
Там развалины нашёл я только,
Не слыхать нигде на идиш слова.
Перевод Бориса Дегтяря
К содержанию
В ЕВРЕЙСКОМ САДУ
Всё меньше в мире газет
выходит на языке идиш.
Здесь, в еврейском саду,
Круговерть, ветра свист,
Листопад!
Вижу я: за листом
Быстро падает лист.
Гибнет сад.
Дай, Бог, тёплые дни!
Чтобы начал наш сад
Зеленеть!
Коль не вырубят сад
И дожди прошумят
Значит, яблокам зреть!
Перевод Семёна Вайнблата
К содержанию
НАД ОДЕССКИМ ЛИМАНОМ
Над одесским лиманом висит тишина,
Камни как малыши, что умыты к субботе.
Крепко спит всё вокруг, лишь морская волна
Стонет, глядя, как тонем в духовном болоте.
Уж в Одессе еврейская речь не слышна,
Здесь все книги сожгли, синагоги закрыли.
Даже кладбище-место, где плачет душа,
Осквернили...
Нам, евреям, нет места за общим столом,
Нас своими зовут лишь познавшие горе.
Доброй шутки еврейской не сыщешь с огнём,
Даже "Кадиш" прочесть
Будет некому вскоре.
Улетела мечта от ворот поворот!
И наследие наше предали забвенью.
Сколько пятниц прошло, но не будет суббот.
"Изыди!" нам повсюду кричат с раздраженьем.
Перевод Семёна Вайнблата
К содержанию
НОЧНАЯ БУРЯ
Черней грача волна была
Бурлит, рыдает,
По щекам моря дрожь прошла,
Оно страдает.
Уныло воет ветер злой,
Как в пекле черти.
На пляже слышен шум глухой,
То ангел смерти.
И ужас заглянуть готов
В каморку ада,
И в изголовье берегов
Чадит лампада.
Тьму создал Бог наш в первый раз
Во дни творенья,
Второй в Одессе, на заказ.
В том нет сомненья.
Перевод Семёна Вайнблата
К содержанию
ПОКАЯНИЕ ЕВРЕЙСКОГО КОММУНИСТА
Народ, мой бог единственный,
Я пред тобой склонён.
Грехи согнули спину,
Печалью поражён.
Нагой стою, пристыженный
В придуманном раю.
Я лишний, я униженный
Решай судьбу мою.
Всего себя не пожалел
Для коммунизма я.
Душой и сердцем я болел,
Чтоб расцвела земля.
И наш язык, и дети -
Пошло всё нараспыл.
И ангел лихолетий
Крылом нас не прикрыл.
Я пел со всеми хором
То нотам "Счастье тут".
Я был певцом, актёром,
А режиссёр был плут.
Играл я что есть силы
Но вот - судьбы изгиб -
Мне жизнь глаза открыла,
Что я в афёру влип.
Не отвергай еврея,
Как некашерный плод
Народ. Я жив и смею
Просить тебя. Я - вот...
К содержанию
ИЕРУСАЛИМСКИЙ МАРШ
На плечах усталых старые мундиры,
Отблеск орденов сияет на груди,
И шагают стройно воины седые,
Груз тревог и горя оставив позади.
Припев:
Сколько дней ни пройдёт, сколько лет,
Не забыть этой праздничной даты,
Сквозь победы немеркнущий свет
Маршируют седые солдаты.
Мы её добыли, жизни не жалея,
Мы завоевали победу для людей
И проходим твёрдо по земле евреев,
По земле священной Эрец Исраэль.
Припев
Память о погибших, боль за не пришедших.
Мы шагаем рядом, мы в одном строю.
Как на поле брани, мы сегодня вместе.
Не дадим в обиду мы страну свою.
Перевод Фриды Мостовой
К содержанию |
Рассказы
ЧТОБЫ НЕ ВЛИПНУТЬ
В конце сентября 1947 года я получил приглашение участвовать в первом съезде
молодых писателей Украины. Приглашение подписал председатель еврейского
отделения Союза писателей Украины Григорий Полянкер.
Через пару дней я приехал домой к Полянкеру, на улицу Ленина, 68. Григорий
Исаакович попросил меня выступить на съезде и рассказать о судьбе еврейской
библиотеки Киева, здание которой было разрушено во время войны, а книги из
её фонда свезены в церковь на Подоле и брошены там без присмотра и
надлежащего ухода. "Надо спасти книги, - сказал мне Полянкер. На заседаниях
съезда будет присутствовать первый секретарь ЦК КП Украины Лазарь Каганович,
который может в этом деле помочь".
Затем Григорий Исаакович попросил меня почитать новые стихи. Он пригласил
своих соседей по дому Давида Гофштейна и Абраама Когана. И я начал читать.
Мэтры внимательно слушали. Когда я прочёл последнее стихотворение, Давид
Гофштейн поблагодарил меня за красивый поэтический вечер. Я, естественно,
был от счастья на седьмом небе, ибо это сказал великий еврейский поэт Давид
Гофштейн. Сразу после этого Полянкер предложил организовать в Доме писателей
мой творческий вечер. Будут все еврейские писатели Киева. Я Должен подобрать
стихов на 20 минут, не более, могу пригласить на этот вечер своих друзей.
До глубокой ночи я составлял программу моего первого творческого вечера, о
котором так мечтал. Я решил пригласить своих соучеников из 60-й еврейской
школы Киева, которая уже давно была закрыта, и преподавателя еврейской
литературы Броху Марковну Пилявскую.
На следующий день вечером в Доме писателей собралось пятнадцать-двадцать
еврейских прозаиков и поэтов и мои друзья. Полянкер пригласил меня в
президиум и открыл вечер короткой речью. Он сказал, что еврейская литература
за четыре кровавых года войны потеряла много талантливых поэтов и прозаиков,
но наша литература жила и будет жить. В её ряды вольются новые таланты,
предстоит расцвет нашей литературы. Назло любым клеветниикам и сплетникам
растут ряды еврейской творческой интеллигенции. Свидетельством этого, сказал
Полянкер, является творческий вечер молодого поэта-фронтовика, офицера
советской армии, который выступит сейчас со своими стихами.
Он предоставил мне слово. Ещё раньше я решил, что не буду ни о чём говорить,
пусть стихи скажут всё сами. Я начал с лирических стихов, прочитал несколько
баллад и коротких четверостиший, которые, как я полагаю, можно назвать
поэтическими афоризмами. В моём распоряжении было двадцать минут, и я был
вынужден торопиться и, как мне показалось, читал слишком быстро. Поэтому я
тут же решил прочесть ещё одно стихотворение, которое ещё никому не читал,
но мне оно нравилось. Старательно и громко прочёл его название: "Моя
монополия".
Я жизнь свою партии подарил,
Нежное сердце отдал любимой,
Народу отдал стихи свои,
Но совесть свою оставил себе...
(Подстрочный перевод)
После нескольких жидких аплодисментов Полянкер дал знать, что пора
заканчивать. Первым выступил Давид Гофштейн. Он устало встал со своего места
и тихим голосом сказал: "Мне было приятно услышать свежий молодой голос.
Чувствуется, что своеобразная еврейская тематика ему очень близка и
доминирует в его стихах. Мне кажется, Эли Бейдер берётся за перо, когда
что-то задевает его душу. Я желаю ему творческих успехов".
После длительной паузы слово взял Мотл Талалаевский. Он сказал, что
некоторые стихи ему понравились, но как коммунист он не может пройти мимо
фальшивого тона, который ясно слышен в стихотворении "Моя монополия". "Разве
допустимо, - продолжал он, -чтобы теперь, после нашей большой победы в
Великой Отечественной войне и дальнейшего развития советской литературы,
вновь всплыли мутные потоки, давно осуждённые партией и самой историей?!
Нельзя делить себя, надо полностью и без остатка посвятить себя нашей идее,
делу Ленина-Сталина, родной коммунистической партии. Не хвалить мы должны
молодого поэта Эли Бейдера, который с первых своих шагов идёт по неверному
пути".
После эмоционального выступления Талалаевского в зале установилась гнетущая
тишина. Мне показалось, некоторые писатели вообще пожалели, что пришли на
этот вечер. Все стали дружно меня осуждать. Эти выступления произвели на
меня тяжёлое впечатление. Это были удары, рассчитанные на то, чтобы
произвести впечатление на присутствующих: все должны слышать, что они
выполняют свой священный долг.
Выступавшие редко говорили о других моих стихах, но о "Моей монополии"
высказались все, при этом писатели
старались убедить присутствующих в своей политической зрелости, в своём
глубоком политическом подходе к вопросам литературы.
Настроение моё было подавленным. Я сидел с опущенной головой, как будто
записывая главные мысли выступающих. Впервые в жизни я видел тех, которых
считал инженерами человеческих душ, борцами и мыслителями. А в
действительности они оказались всего лишь напуганными человечками. Я понял,
что они выступали лишь потому, что должны что-то сказать, в противном случае
их могут, не дай бог, неправильно понять, обвинят в космополитизме или
других смертных грехах. Мало ли кто мог быть в зале?!
Слушая выступления, я вдруг вспомнил слова одной женщины, пережившей
концлагерь. Она рассказывала мне о жестоком обращении с узниками. Но когда
тот или иной немец был уверен, что других его сослуживцев в бараке нет, он
втихую передавал хлеб, конфеты, лекарства, говорил с узниками
по-человечески. В конце вечера я поблагодарил всех, кто пришёл на мой
творческий вечер. Ко мне подошла моя учительница, стала утешать. Подошёл и
Давид Гофштейн, и тихо, почти шёпотом, сказал: "Не обижайся на них, пожалей
их..." И быстро ушёл.
Через несколько минут зал опустел, как будто всех ждали неотложные дела. Так
уходят с неудавшейся помолвки, которая завершилась скандалом.
* * *
Никто не знает, где его счастье, но стремится к нему. Случается, человек
подходит к двери, долго стоит перед
не решаясь открыть. Его тянет туда, ему кажется, что там его счастье, его
судьба.
Он берётся за ручку двери, слегка поворачивает её. И и вдруг слышит окрик и
проклятие той, которая прежде была сплошь красота и благородство. Та,
которая всегда была столь скромна и душевна, оказывается нахальной и злой
стервой. И человек, чтобы не разочароваться, быстро прихлопывает дверь.
Чтобы не влипнуть...
Иерусалим, 1998
К содержанию
МУЗА МАЯКОВСКОГО
Вы видели, как догорает костёр? От высокой горки поленьев почти ничего не
осталось, всё потухло, нет уже языков пламени, серый пепел былой страсти
покрыл остатки костра. И вдруг, без видимой причины, как бы от внутреннего
взрыва, прорывается небольшой огонь, искорки разбрызгиваются во все стороны
и светлеют у костра. Но это уже последняя вспышка.
Костёр любви некогда красиво и долго согревал двух замечательных людей -
еврейку Лилю Брик и русского поэта Владимира Маяковского.
Лиля Брик прожила долгую и яркую жизнь. Уже будучи замужем за Осипом Бриком,
она в 1915 году встретилась с Маяковским. Эти незаурядные личности не могли
незаметно пройти мимо друг друга. Их связала большая любовь.
Осип Брик был её первым мужем. Лиля с ним встретилась, когда ей было
тринадцать лет, в 1905 году. В гимназии, где училась Лиля, он руководил
кружком политической экономии. Обвенчались они через семь лет. И Лиля
сказала своему мужу Осипу, что она и Маяковский полюбили друг друга. Все они
решили не расставаться, но и ни в чём не стеснять свободу друг друга. Осип,
Лиля и Володя прожили жизнь духовно и по большей части территориально
вместе, в одном доме.
Пятнадцать лет длилась совместная жизнь этой необычной семьи. Маяковский
писал письма даже тогда, когда они ненадолго расставались. Каждое письмо
говорило о большой любви к Лиле.
Умом Маяковский принял утверждение, что семья это отживший осколок
буржуазного общества, как утверждал Энгельс,
никогда не имевший семьи. Дворянин по происхождению, Маяковский всю жизнь
опасался оказаться обывателем даже в любви. Но душой он стремился к обычной
семье с Лилей, после с Татьяной Яковлевой, Вероникой Полонской. Маяковским
восхищались, но по-настоящему его не любили.
В апреле 1930 года не стало Владимира Маяковского. Он застрелился. Он
оставил посмертное письмо, в котором, среди прочего, писал: "...Товарищ
правительство, моя семья это Лиля Брик, мама, сестра и Вероника Полонская.
Если ты устроишь им сносную жизнь спасибо".
Хотя во все века и у всех народов завещания священны, на этот раз так не
случилось: и сносной жизни им не устроили, и много сплетничали. Гордо и
бережно, как великое счастье, которое ей досталось, Лиля пронесла свою
любовь и признательность Маяковскому до конца своей жизни.
На склоне лет в тиши редко навещаемого дома в Москве, и, возможно, не без
помощи своего спутника жизни Василия Катаняна, литературного критика и
биографа Маяковского, Лиля написала книгу "С Маяковским". Она приложила к
рукописи редкие фотографии, которые не были известны любителям поэзии.
Однако, в какую редакцию бы она не обратилась, везде ей отказывали в издании
книги. Не потому, что она была бездарно написана. Никто из редакторов
журналов не осмелился взять из рук Лили Брик эту рукопись. Ещё памятны были
грязные памфлеты "Огонька" в её адрес. Так несколько лет эта рукопись
кочевала из редакции в редакцию. Конечно, можно было издать её за границей.
Но это было опасно, ибо каралось как величайшее
преступление. Разве можно забыть лавину клеветы, грязи и "патриотического"
негодования против Пастернака за "Доктора Живаго"? Та лавина задавила
Пастернака.
Но и умереть, не выполнив своего долга перед Маяковским, Лиля не могла. Её
можно сломать, но не согнуть. Родная её сестра Эльза Триоле не одобрила бы
её отступничества. Был приглашён гостивший в Москве итальянский коммунист,
журналист Карло Бенедетти, который согласился взять рукопись и издать её в
Италии в виде интервью с Лилей Брик.
В мае 1978 года Лиля при случайном падении сломала бедро. Со свойственным ей
оптимизмом и мужеством она перенесла и эту боль. Она уже почти поправилась и
выехала на лето к вдове Всеволода Иванова, на дачу в Переделкино.
Третьего августа Лиля получила авторский экземпляр своей книги. Четвертого
августа, во время краткосрочного отсутствия Катаняна, она приняла яд. С
ясным умом и прекрасной памятью она на 87-ом году ушла из жизни, не желая
быть никому в тягость, выполнив свой долг перед Владимиром Маяковским.
Лиля Брик завещала развеять её прах, что и было сделано в районе
Звенигорода. Три дня бегал по инстанциям Константин Симонов, чтобы добиться
права напечатать даже не некролог, а четыре строчки в "Литературной газете"
о Лиле Брик - любимой пролетарского поэта.
Так последней вспышкой душевной красоты загорелся, чтобы навсегда погаснуть,
костёр любви, который стал музой поэта Владимира Маяковского.
К содержанию
ДУМА ОБ УЧИТЕЛЕ
Я возвращался домой в первом часу ночи. Было тихо
свежо. Легкий ветерок, как нерадивая хозяйка,
ожидавшая гостей, наспех подметал улицу, загоняя в
дальние углы бумажки и мусор. Гасли последние окна в
домах и напрасно мигали светофоры. Я
медленно шагал, восстанавливая в памяти услышанное от пожилой женщины,
которая недавно вернулась из Торонто, где она гостила у своей сестры. Ей не
понравился образ жизни сестры в Канаде. Люди там живут обособленно, а
стремление разбогатеть поглощает у людей их лучшие порывы.
Из множества эпизодов о быте и нравах в Торонто меня не оставлял
рассказ о телевизорах. Если бы меня до сегодняшнего дня спросили, нужно ли
семье два телевизора, я ответил бы, что нет. Только в несправедливом
обществе, где плоды труда равнодушно использует пресыщенная материальными
благами кучка людей, возникают желания об таких излишествах.
Но я слышал рассказ не о богатых, а об обычных тружениках. В этой семье из
трех человек имеются три телевизора, и ни один из них не лишний. Телевизор в
гостиной просто необходим. И небольшой телевизор в спальне позволяет после
суетливого дня полежать в кровати и на сон грядущий послушать тихую музыку
или последние известия об этом неспокойном мире, что вполне заменяет чтение
газет. К месту и малый телевизор на кухне. Когда в гостиной смотрят концерт
или кинофильм, нелегко удержаться хозяйке на кухне, а приготовление чего-то
вкусного для семьи требует времени. Но оказывается, эта семья собирается
купить переносной телевизор, которого им
недостает, когда они выезжают в воскресенье за город отдыхать.
Раньше я никогда не задумывался над вопросом о возможности полного
удовлетворения потребностей людей. Я был убежден, что в силу высокой
сознательности у людей разумного общества не будет хапуг и стяжателей. Люди
будут брать для себя только необходимое. А сколько необходимо человеку?
Выходит, полное удовлетворение потребностей людей не более, чем красивая, но
несбыточная сказка? А я всегда верил в честность и правдивость моего Учителя
и в его идею о разумном и счастливом обществе. Что же имел в виду Учитель в
словах: "От всех по способностям, всем по потребностям?"
Как можно удовлетворить все потребности, если три телевизора на семью
- не достаточно? А как же со всем остальным, что необходимо для кажущегося
счастья людей? Можно ли предположить, что когда-нибудь придет время, когда
люди скажут, что они все имеют, и им больше ничего не надо? Вероятно, нет!
Но как тогда с девизом разумного общества?
Как часто в жизни бывает, случайная деталь помогла решить мой вопрос. В
яркой витрине овощного магазина я увидел выставленные огурцы, помидоры,
капусту и... перец!
Да, был такой еврейский писатель Ицхак-Лейбуш Перец. Он давно подсказал
ответ на мой вопрос. Он поведал миру о честном труженике Бонце Швейге,
который всю свою жизнь тяжело и безропотно жил, трудился и всегда был
голоден. Когда Бонця Швейг, наконец, отдал Б-гу душу, он, конечно, попал в
рай. Его встретили там радушно, как долгожданного гостя, и
сказали ему: "Бонця, скажи, чего ты хочешь, тебе принадлежит все!" и
Бонця Швейг сказал: "Я хочу иметь ежедневно утром горячую булку со свежим
маслом!"
Когда человеку угрожает смерть, у него одна забота -
выжить. Когда человека мучает голод, у него одна потребность -
вдоволь поесть.
Не швейговская ли мечта должна была воплотиться в девизе моего Учителя? В
самом деле, потребность человека, что бочка без дна, но накормить досыта
человека общество, которое перестанет тратить усилия на уничтожение себе
подобных, сможет. Учитель мой ведь жил впроголодь и сочувствовал нищим и
голодным. Да, это он имел в виду, не более.
1975 Горький
К содержанию
ХАНУКАЛЬНАЯ СВЕЧА
Это было в дни антисемитской кампании, которая началась после того, как
Голда Меир будто бы заявила, что евреи Советского Союза являются гражданами
Израиля и могут возвращаться на свою историческую
родину.
Парткомы потребовали, чтобы евреи-деятели искусства и литературы, а также
те, кто занимал высокие посты на предприятиях, вступили в политическую
борьбу с сионизмом.
Появились антисемитские сочинения Кичко, Евсеева, на эту тему читались
публичные лекции, защищали кандидатские и докторские диссертации. Даже в
"Правде" и других партийных органах были напечатаны оскорбительные для
евреев и государства Израиль статьи. Тех, кто отказывался подписать
антиизраильские декларации или выступить на собраниях, обвиняли в
политической слепоте, что означало несоответствие занимаемой должности.
В один холодный декабрьский вечер группа евреев собралась на квартире
сослуживца, чтобы посоветоваться, как себя вести в этой ситуации. Когда один
из них, Михаил Львович, горячо и категорично заявил, что в Советском Союзе
ведётся антисемитская пропаганда, которая напоминает Германию 30-х годов, и
что надо активно бороться с этим, остальные испугались слишком смелых слов,
не будучи уверены, что кто-то, не исключая собравшихся, не донесёт КГБ на
остальных. Они даже пожалели, что собрались здесь.
Сумерки в комнате ещё больше сгустились, настроение собравшихся испортилось,
они начали искать повод чтобы уйти домой.
И вдруг все одновременно увидели через открытую в другую комнату дверь, что
кто-то идёт к ним, держа в руке горящую свечу. Испуг исказил их лица. Все
знали что жена хозяина в отъезде, поэтому они и решили здесь собраться.
Значит, в соседней комнате кто-то подслушивал их разговор.
У Зиновия Захаровича перехватило дыхание и холодок пробежал от затылка к
пояснице.
Иосиф Калманович почувствовал знакомое сердцебиение перед приступом и такую
слабость в ногах, что если бы теперь надо было бежать отсюда, он был бы не в
состоянии этого сделать.
Моисей Маркович стоял с открытым от ужаса ртом, точно хватил глоток кипятка
- не проглотить и не выплюнуть.
Михаил Львович пытался вспомнить, что он, собственно, сказал. Глазами он
отмерил расстояние до двери и подсчитал, успеет ли выскочить раньше, чем
тот, со свечой, войдёт в комнату.
Ефим Самуилович не мог себе простить, что дал себя уговорить прийти сюда.
Сердце ему подсказывало, что добром это не кончится.
- Отец, ты к нам идёшь? спросил Яша, хозяин квартиры.
Все с облегчением вздохнули. Каждый пытался как-то скрыть своё волнение. Они
забыли, что к Якову Наумовичу приехал его старый отец Нахум из Бердичева.
- Как вы себя чувствуете, ребе Нахум? первый пришёл в себя Михаил Львович.
Маленькими шажками в комнату вошёл седой старик.
Очки висели на его рифлёном лбу, в одной руке он держал горящую свечу, в
другой у него была книга в старинном переплёте.
- Как я себя чувствую? со вздохом переспросил старик.Как в 90 лет.
- Отец, почему ты не зажёг у себя электрический свет?
- Что значит почему? Сегодня же первый день Хануки, так я зажёг первую
свечку.
- Что у вас за книга, ребе Нахум? наконец справился со своими нервами
Зиновий Захарович.
Всем захотелось вдруг говорить о чём-то, не связанном с целью их появления
здесь. Старик поставил свечу на стол, тяжело уселся в кресло, которое ему
услужливо подставили, и начал пересказывать то, что он только что прочёл в
книге.
- Это были, дети мои, тяжёлые времена. Тысячи евреев вынуждены были бежать
из Испании, но не все это могли сделать. Тогда оставшиеся будто бы приняли
чужую веру. Днём они вели себя, как требовалось, а придя домой, учили своих
детей законам Моисея, вели еврейский образ жизни. Но они боялись малейшего
шороха, ночного стука в дверь. Однако в душе они остались евреями. Они
гордились Маккавеями. От отца к сыну они передавали рассказы о героизме
Мататиягу, который сказал: "Я, мои сыновья и мои братья останутся верными
законам нашего Бога".
То ли от себя, то ли это в книге было написано, но старик сказал:
- Никакому врагу не удастся уничтожить наш еврейский народ.
Все внимательно слушали старика. Они, образованные люди, руководители
лабораторий, отделов, с большим жизненным опытом, вдруг стали как бы
мальчишками, которые слушают мудрого ребе. Они начали вспоминать, как очень
давно и у них справляли этот весёлый еврейский праздник Ханука, но в
суматохе советской жизни они это позабыли.
Когда в дом вошла Яшина дочка со своим русским другом, старик прервал свой
рассказ. Все спохватились, что уже поздно, начали прощаться.
Казалось, что при свете ханукальной свечи они поняли, как им следует себя
вести, и в советах больше не нуждаются.
К содержанию |