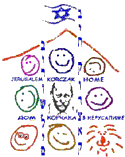|
Елена Твердислова
Память, обращенная в
будущее, или
Религия детства
(Читая дневники Я.Корчака и
М.Пришвина)
Поиском цели жизни, стремлением осмыслить действительность
продиктовано обыкновение молодых людей вести дневник. С годами у человека
возрастает тяга к воспоминаниям, в которых живо фиксируется скрытая от простого
глаза борьба человеческого духа: с окружением, обстоятельствами, самим собой.
Пережитое заставляет размышлять о фактах, обобщать их как целую жизнь.
Привлекательны воспоминания известных исторических личностей, крупных
общественных и политических деятелей. Но совершенно особое место занимают
мемуары писателей, создававшиеся в старости, на склоне лет, когда само понимание
существования обретает некий метафизический смысл.
Дневник писателя - чрезвычайно своеобразный жанр, стоящий на пограничье
художественной и документальной литературы. Не случайно его относят к так
называемой паралитературе, подразумевающей его сопредельность с беллетристикой.
Многоликостъ дневника писателя (а каждый дневник - это своего рода поджанр) -
неоспорима, ибо в его повествовании предельно близко "встречаются", пересекаясь,
личность автора, его внутренний мир - с внешним: реальным, конкретным,
исторически определенным. В этом плане дневник - богатейший источник философии
жизни в ее очищенном от вымышленных, свойственных художнику, конструкций и от
абстрактно-теоретических построений, за которыми всегда модель действительности,
а не ее плоть.
Бывают дневники, которые как бы досоздают реальность. Они становятся
самостоятельной частью художественного наследия писателя. Бывают дневники,
проясняющие те или иные факты биографии, известные по другим документам или
литературным произведениям. Но бывают дневники, соединившие в себе
разносторонние грани личности, которая предстает в них одновременно в нескольких
ипостасях. К такого рода явлениям в литературе, без сомнения, принадлежат
дневники писателей, которых принято считать детскими, Януша Корчака - в Польше и
Михаила Пришвина - у нас. По случайному совпадению и те и другие опубликованы у
нас совсем недавно1 .
Не секрет: довольно распространено уничижительное, в лучшем случае
снисходительное отношение к детским писателям (и в целом к детской литературе)
как братьям нашим меньшим. Это противоречит истинному пониманию культуры, если
видеть в ней не просто сумму накопленных человечеством знаний, но прежде всего
представление о человеке как части природы и мироздания, не возвышающемся над
ними, а являющимся их органичным животворным элементом. И хотя в сфере
гуманитарных наук идее детства - состояния духа, в котором человек пребывает в
определенном и вполне конкретном возрасте, но которое способен пронести и через
всю жизнь, - принадле-жит заметное место, мало кто задумывается над тем, почему
способность помнить в себе ребенка, дана не всем. Ибо это -
дар Божий. Им в
полной мере наделены именно так понимающие историю и с этих позиций оценивающие
судьбы мира Корчак и Пришвин. Моя попытка сопоставить - в самых общих чертах,
без обязательного акцента на сходстве — писателей с разными судьбами, разных по
манере письма не случайна. Она продиктована стремлением, опираясь на их
дневники, показать, что существует определенный комплекс представлений о детстве
и ребенке как некой религии.
Мы привыкли к тому, что художественные произведения Для детей нередко
рассматриваются в сугубо прикладном смысле, в качестве инструмента, необходимого
в процессе воспитания. А между тем педагогическая и творческая деятельность
Корчака и Пришвина являют собой пример истинного служения лядам, значительно
выходят за рамки традиционно понимаемой дидактики. Замечу, что Пришвин по
образованию был агроно-мом, окончил агрономическое отделение философского
факультета Лейпцигского университета, Корчак - врачом, и оба "стояли" у самых
истоков жизни, ее биологического начала. Произведения Пришвина и Корчака, при
всей их ориентированности на молодого читателя, впервые открывающего для себя
мир, а через него - и самого себя, когда сознание, еще не разведено на
"взрослое" и "детское", сходно этической направленностью. Не только
художественное творчество, но вся их жизнь, конкретный труд были подчинены
единственной логике: утверждению веры в справедливость, поискам выхода из
одиночества, осмыслению "взрослой" жизни, в которой изна-чально присущая
человеку способность к добру и добродетели, выражающаяся в деятельной любви к
людям, животным, природе, с годами утрачивается или искажается.
Это осознавали Корчак и Пришвин, которых роднит непосредственность
мировосприятия, "детскость души", чистота-натуры, свойственные ребенку. И
польский, и русский писатели в своём творчестве проявили талант видеть мир
"по-детски". Отсюда, по-видимому, чувство одиночества, сопровож- давшее обоих
писателей, остро переживаемое в старости и в определенной мере подтолкнувшее к
ведению дневника. "Я человек одинокого пути", - писал Корчак в Варшавском гетто
в 1941 г.2 в своем дневнике. Дневник он начал писать (с перерывами) в 1940 г. и
вёл его уже постоянно с мая 1942 г.
Записи Пришвина названы "Мы с тобой". Это своего рода исповедь человека о
преодолении одиночества, о любви писателя к жене, другу, соратнику. Этим
обусловлена и его ори-гинальная форма,- диалог близких людей, встретившихся уже
на закате жизни и ощупью, часто с недоверчивостью находивших единство.
При всех различиях дневников, и в первую очередь, условий, в которых они
создавались, обращают на себя внимание сходные мысли Корчака и Пришвина о
старости, одиночестве, смысле жизни - на фоне веры в детство как в нечто
незыблемое. Ощущая в себе молодость, сохраняя в себе это чувство вместе с
желанием спокойно смотреть в будущее, планировать без боязни свою жизнь именно
на будущее, Корчак одновременно старается в это страшное время, в годину тяжелых испытаний, вспомнить как
можно больше из прожитого. Себя, пишущего дневник, он сравнивает с землекопом.
"Когда копаешь колодец, не начинаешь работу с глубины: сперва широко
захватываешь верхний слой, отбрасываешь землю, лопата за лопатой, не зная, что
ниже, сколько переплетенных корней, что мешает и чего не достает, сколько
огромных, закопанных другими и тобой, забытых камней и всякого рода твердых
предметов"3.
Дневник Корчака - не только жизнеописание без привычных для этого жанра
мистификаций, но и споры, полешки по разным вопросам, как будто бы случайным,
сделанным на полях, но на самом деле важным для понимания системы его воззрений.
Показательно, в частности, его замечание о Ницше, который, по его мнению "умер
не в душевном разладе с жизнью, заблуждавшийся, а в болезненном разладе с п р а
в д о й"4. Ибо для Корчака правда - главный критерий добра и добродетели, одна
из важнейших категорий его философии жизни, категория, которой измеряются
человеческие поступки, на которой основывается этика. (В настоящее время в
литературоведении наметилась тенденция развести, разграничить понятия этики
поступка и этики литературы. В жизни и творчестве Корчака, равно как, впрочем, и
Пришвина, этого деления не могло быть в принципе. Здесь этика была единой.)
"Кто-то когда-то иронично заметил, что мир - это капелька грязи, повисшая в
беспредельном пространстве, а человек - зверь, сделавший карьеру. И так тоже
может быть. Но необходимо дополнить: эта капля грязи испытала страдание, она
умеет любить и плакать и преисполнена тоски"5 . Чувство тоски было хорошо знакомо
и Корчаку, и Пришвину. "Без этого чувства тоскующей отдельности я себя не помню,
до этого я о себе сказать ничего не могу"6, - писал Пришвин. Размышления
писателей на эту тему нельзя свести к житейским наблюдениям. Это скрытый кодекс
жизненных правил, согласно которому каждый человек - личность, индивидуальность,
уникальное чудо с рождения, детства и до старости.
"Если не веришь в существование души, - говорил Корчак, - то следует признать,
что твое тело будет жить, как зеленая трава, как облако. Ведь ты - вода и прах"7.
В этом - вся суть "религии" Корчака - "религии начала Жизни" (по выражению
Пришвина), которую исповедовали оба, но каждый по-своему: ничто не исчезает, все
остается в памяти мира. Было бы неправильно говорить о сходстве религиозных
воззрений писателей. Корчак происходил из еврейской семьи, был в той или иной
мере приобщен к иудейской традиции, Пришвин воспитывался отчасти в соответствии
со староверческим укладом его мать была из раскольничьего рода "бунтарской и
героической ветви купцов Игнатьевых"8. Так или иначе, эта
причастность обоих религиозным культурам - пусть разным и в не кано-. ническом
виде - делает их духовно близкими и дает основание усматривать во взглядах
обоих, особенно в трактовке вопросов семьи, любви, брака, детства, перекличку,
выходящую за рамки простого совладения.
Стоит отметить и другое. Религиозность Пришвина не носила открытого характера,
проблемы веры как бы не осмыслились им специально. Корчака эти проблемы занимали
более явно, что нашло отражение в его "молитвах тех, кто не молится" ("Один на
один с Господом Богом"). Оба писателя не сомневались, что единственный путь
жизни - с Богом, а вот, какой он, Бог - это уже другой вопрос. Для Корчака и
Пришвина он не был принципиальным. Ибо, во-первых, их религиозные воззрения были
шире традиционно толкуемых в силу самой природы их философии жизни, обращенной к
детям, а, во-вторых, оба они воспринимали жизнь как путь добра и справедливости,
данных свыше, даже если ни того, ни другого в настоящий момент в реальности не
было. Любопытно в связи с этим следующее замечание польского мыслителя:
"Достоевский говорит, что все наши мечты со временем исполняются, но только в
такой извращенной форме, что мы их не узнаём"9. Ещё лаконичнее и
острее эта мысль звучит у Пришвина: "Революция - это месть за мечту"10.
Избежать этой искаженности помогает одно из условий гармоничного существования:
помнить в себе ребенка.
По Корчаку, мир ребенка - особый мир, со своей душевной атмосферой и своим
ритмом - "бесконечно повторяемая сказка". Не случайно дети любят - на это не раз
обращал внимание польский писатель - слушать одну и ту же сказку, в ее кажущемся
однообразии, в ритме повторов и возвратов, словно убаюкивающих, всегда заключена
уверенность в стабильности мира, необходимая вера в незыблемость бытия. Именно в
детстве - пик человеческой активности: в стремлении любить, творить добро; в
поиске собственного места, дороги к нему, по сути своей всегда добродетельной.
"Когда я первый раз был маленьким, я любил ходить по улицам с закрытыми
глазами", - говорит главный герой повести Корчака "Когда я снова буду маленьким"11,
ибо в подобном состоянии он сильный, уверенный в себе и ничего не боится, а,
кроме того, так лучше мечтается (раскованность мироощущения - вот основной
критерий детскости души, показатель ее духовного богатства и свободного,
творческого самовыражения). Приведу знаменательные слова Пришвина: "Больше всего
из написанного мною, как мне кажется, достигают единства со стороны литературной
формы и моей жизни маленькие вещицы мои, попавшие в детские хрестоматии. Из-за
того я их пишу, что они пишутся скоро, и, пока пишешь, не успеешь надумать от
себя чего-нибудь лишнего и неверного. Они чисты, как дети, и их читают и дети, и
взрослые, сохранившие в себе личное дитя"12. "Во сто раз лучше быть
ребенком, - размышляет герой Корчака, - потому что когда я был взрослым, видя
снег, уже думал, что будет грязно, чувствовал промокшие ноги и думал -хватит ли
на зиму угля? И радость - она тоже была, но присыпанная пеплом, запыленная,
серая. Теперь же я ощущаю только светлую, прозрачную, ослепительную радость. Что
это? - А ничего: снег!"13. Герой Корчака, стремящийся во что бы то ни
стало сохранить в себе "детское" начало, "личное дитя" (по выражению Пришвина),
невольно воспринимается как прототип многих последующих героев польской прозы,
например, Цикла "Коричные лавки" Бруно Шульца и (в пародийном ключе)
"Фердидурке" Витольда Гомбровича, а позднее - Тадеуша Новака и его мифологии
детства. Сходство усиливает еще и тот факт, что чувство непосредственности,
чистоты мироощущения Корчак передает с помощью определенного литературного
приема - столкновения в одном лице ребенка и взрослого человека ("Мы боремся не
с человеком, а со временем")14 , ощущающего себя как "доисторические
люди"15. В данном контексте особенно ощутима связь не только с
"Коричными лавками" Шульца, но - еще больше - с его же "Санаторием под
Клепсидрой", о чем свидетельствует даже название, несущее в себе элемент
времени, памяти, образа вечной бренности.
"В конце концов, дети - люди или нет?" - восклицает корчаковский "ребенок". Это
не вопль обиженного существа, ибо для писателя данный вопрос не риторический. Он
прямо относится к его этике детства: идее изначально данной доброты и
человечности, имеющих всегда свое право на жизнь, но в реальности осуществляемых
лишь тогда, когда у ребенка есть независимость на государственном уровне, то
есть свои незыблемые ПРАВА. При всей образности языка Корчака, создававшего свои
произведения - сказки для детей в категориях "взрослого бытия", этот вывод - не
метафорический - он основополагающий в его системе воспитания, ибо, согласно его
- концепции, ребенка от взрослых должен охранять ЗАКОН. Увы, трагедия детского
геноцида во время второй мировой войны (а в нашей стране еще раньше) подтвердила
прозорливость его позиции. В финале повести "Когда я снова буду маленьким"
герой, уже будучи взрослым, сидит за письменным столом, исправляя в ученических
тетрадях ошибки, и сразу находит, одну из них: слово "стол" (ошибки,
естественно, касаются польского языка) написано через "у", а не через "о" с
креской. Он берет карандаш и на промокашке, вместо "о" с креской пишет "у"-
ошибка из времен детства. Известно, что дети всегда имеют склонность писать, как
слышится, минуя орфографические правила - одно из свидетельств обостренной
непосредственности ребенка. У маленьких, подчеркивает писатель, прибегая к
условному языку, свое видение мира, не замутненное искусственно созданными
правилами и параграфами, свой язык и, следовательно, своя грамматика - более
простая, естественная и логичная. О том, как мир "детских" представлений о жизни
сталкивается (и разбивается) с миром взрослых, Корчак повествует в повести
"Банкротство маленькогоДжека" - своеобразной "американской истории", написанной
в шутливо-приключенческой форме - для детей, и притчево-назидательной - для
взрослых. У книги два разных адресата, и это очень характерно для прозы
писателя.
Джеку Фултону не позволили осуществить его намерения - создать банк для детей -
все те же грамматические ошибки: его обращение ("мемориал") к министру финансов
было переслано... министру просвещения и от него Джеку. "Американская трагедия"
по-детски, то есть для Джека, заключается в том, что, желая жить как взрослые,
свободно и независимо, он обязан руководствоваться и их правилами, в данном
случае - не делать грамматических ошибок, ставших преградой на пути исполнения
желаний. Внешне в повести вроде бы идет игра в игру по правилам, которую
писатель ведет с безукоризненной логикой, но за ее легкостью проглядывает почти
трагическая констатация: с одной стороны, это история о том, как ребенок учится
входить в жизнь по типу того, как учится в школе читать, а с другой - о том, что
в своем собственном мире - отдельно и независимо - ребенку жить нельзя. Детский
мир всегда будет полон ошибок... с точки зрения взрослых. У детей, настаивает
Корчак, свои воззрения, ошибки, чувство справедливости, представления. Сравним
пришвинское высказывание: "Всякое живое существо говорит о себе не только
словами, но и формой своего поведения в жизни, никто не безмолвствует"16.
В сущности, рассуждения корчаковского героя, а вместе с ним и писателя, более
глубокие в философском плане, чем может показаться на первый взгляд. Они
касаются сферы общения разных людей, когда, условно говоря, под миром "детей" и
"взрослых" подразумеваются разные миры - в национальном, социальном, а не только
возрастном отношениях.
У Корчака изображаемые им миры не являются строго разведенными при всей их
внутренней независимости. Они могут легко меняться местами и "переходить" из
одного состояния в другое, но при единственном условии: соблюдении кодекса
каждого мира. И еще одно наблюдение из "религиозной" этики детства Корчака.
Когда его маленький герой размышляет о своей будущей жизни, он представляет себе
свою жену, похожей на маму, но вот каким будет его ребенок, сказать не может.
Ребенка нельзя выдумать, предвидеть заранее, он будет таким, каким будет, с
присущими только ему чертами характера и обликом. Лишь это является гарантией
подлинного контакта с ним, позволяющим свободно входить в его "воображаемый мир"
- страну детства. И еще доверие.
Воображение как признак детства предстает в прозе Корчака одним из главных
факторов внутренней свободы, право на которую имеет каждый ребенок. Свобода
означает не просто разрешение "делать что захочу", она раскрепощает волю и
активизирует добродетельное начало в маленьком человеке. В сущности, эта же идея
лежит в основе "детской" прозы Пришвина, "детскость" которой - мнимая,
кажущаяся, ибо произведения писателя отражают его состояние души, еще с ранних
лет жившей мечтой о "побеге в небывалое", по словам самого
писателя17. В дневнике он писал: "Жизнь основана на доверии, не
всегда оправдывающемся, значит, на доверии героическом и жертвенном"18.
Что такое недоверие, он знал по личному опыту. "С одной стороны, это был глубоко
культурный, серьезный и современный человек, но в то же время его душа тяготела
к примитивным пережиткам старых времен; время, когда отдаленные предки жили в
фантастическом мире сказок, - сказал о писателе ученый-натуралист, его друг
К.Н.Давыдов.19 Нет нужды комментировать подобную характеристику.
"Примитивным пережитком старых времен" Пришвин очень дорожил и, оставаясь ему
верным всю жизнь, сделал еще в юности следующую запись: "Земная жизнь сама по
себе есть любовь и убийство, а стремление человеческого сознания - устранить
убийство а оставить одну любовь"20. В отношении к жизни выше всего
писатель ставил художественную интуицию, называя ее "первым взглядом" - в
сущности, способность, изначально данную ребенку. "Благодаря этой способности,
прирожденной во мне с детства, жить в сказке, я занял в обществе положение как
личность, а не как механический агрегат. Мало того, я думаю, каждый человек
преодолевает механически замкнутый круг необходимости личной сказки"21.
Повествовательную "сказочность" пришвинской прозы усиливает ощутимое почти в
каждой его строке стремление к высотам духовной жизни и духовной близости с
природой и людьми, за которыми скрыта драма, пережитая в молодости, когда он,
испытывая еще неясную самому себе неудовлетворенность, оставил невесту. За этой
драмой, воспоминания о которой со-провождали писателя едва ли не всю жизнь,
просматривалась юношеская миросозерцательность, подразумевающая между людьми
нечто более глубокое, по-пришвински идеальное, чем обыч-ное тяготение друг к
другу. Отсюда философская притчевость его повестей-сказок, не имеющих внешне
ничего общего с биографией писателя, но органично сочетающихся с почти детской
наивностью и чистотой поступка его персонажей - всегда натур деятельных. Таковы,
например, судьбы Насти и Митраши, заблудившихся на болотах в поиске клюквы, их
нелегкая жизнь сирот, вынужденных добывать себе пропитание, и вместе с тем
понимать и чувствовать природу, чутко относиться к советам старших, помнить
погибшего на войне отца ("Кладовая солнца") "Наши дела часто вырастают из
детства, как вырастает из земли и тянется к солнцу молодая поросль", - писал
Пришвин22.
Чистота детской души, которую писатель стремился сохранить в себе (менее тесно
общаясь с детьми, нежели Корчак, Пришвин, пожалуй, острее ощущал эту потребность
в "детскости", с которой слита была жизнь Корчака благодаря его работе. У
Пришвина она больше носила созерцательный характер), одухотворяла его талант,
позволив ему создать на редкость благородную почву для подлинно мудрой старости,
не замутненной отрицательным опытом и в то же время далеко не безмятежной, если
помнить о его драме первой любви, не отвечающей "идеалу духовной близости".
"Таков ли мой талант, чтобы мог заменить молодость?" - задает он себе вопрос. В
определенной степени ответом на него может послужить изданный Пришвиным в 1952
г. сборник прозы, оригинально расположенной - в обратной хронологической
последовательности: "Весь этот труд для себя я понимаю как мою биографию
человека и писателя, в которой факты жизни перемежаются с домыслами художника",
- написал он в послесловии к сборнику. "В конце жизни, - продолжает он, -
произведения автора являются большим делом, чем дело его "мастерства". Они
являются результатом творческого поведения всей его личности"23.
Именно в этом, по мнению Пришвина, заключена главная моральная мысль художника и
русской литературы в целом, о которой он, о чем бы ни писал, постоянно думает
как важнейшей национальной традиции, осознавая свое призвание не только в
воспитании юного поколения (многие писатели, например, полагали, что причислив
себя к разряду "детских писателей", Пришвин себя убил, тогда как он-то как раз
наоборот, дорожил мнением детского читателя), но в утверждении добра и
добродетели - высших нравственных критериев, данных человеку вместе с его
рождением. Идеал писателя - о возврате к детству как к изначальному состоянию
перекликается с пушкинским образом "кастальского ключа": "Невидимо склоняясь и
хладея, мы близимся к началу своему".
Очевидные разногласия в трактовке, а, точнее, отношении к детству у Пришвина и
Корчака, на мой взгляд, обусловлены прежде всего отечественной традицией, в
которой вырос тот и другой писатель, и тем эти разночтения для нас интереснее,
ибо их воззрения сходятся в главном: детство - это одухотворенное бытие, пора
этически чистых помыслов, полета мечты и фантазии. Детство - это целостный и
монолитный мир со своим языком, типом существования и бытования. Его
общечеловеческий смысл прекрасно выразил Корчак, найдя в качестве примера слово
"да", которое, звуча на разных языках, не мешает детям общаться: его всегда
правильно понимают.
Трактовка детства как некоего внутренне гармоничного состояния души -
независимого и самостоятельного, находящегося в единстве с окружающим миром и
Космосом, миром, в котором все равны и все неповторимо, позволяет
интерпретировать детство как особую категорию философии жизни, как своего рода
религию. Более того, рассматривая его в широком контексте гуманитарных знаний,
можно поставить вопрос о "религии начала жизни" как области, равной по своему
значению другим религиозным учениям и прежде всего христианству с его доктриной
бескорыстия и всепрощенческой любви. И даже еще больше. Именно эта "религия"
способна соединить в одно целое, без противоречий и столкновений, другие,
философские и религиозные направления, а такая потребность сегодня особенно
ощутима, и творчество Корчака и Пришвина в данном случае - заметный шаг на пути
к, подобному сближению.
Наследие обоих писателей, их дневники, написанные для потомков, призывают нас
искать и находить за размышлениями о жизни и природе не одиночество, а
уединенную работу мысли, душу писателей - безукоризненно искреннюю, обнаженно
страдавшую и через это страдание обретавшую свой смысл бытия в служении детям, в
активном действии.
Примечания
1. Korczak J. Pamietnik. / Korczak J. Pisma wybrane. Warszawa,
1978; Пришвин М.М. Мы с тобой. По дневнику 1940 года. Составление и
сопроводительный текст В.Д.Пришвиной // Дружба народов. М., 1990, № 6, с.
236-296; № 7, с. 264-269; № 8, с. 262-270; № 9, с. 217-255.
2. Korczak J. Pisma wybrane. Т. IV. S. 5.
3. Ibid. S. 300.
4. Ibid. S. 301.
5. Ibid. 3. 304.
6. Пришвина В. Путь к слову. М., 1984,/с. 4. В этом биографическом исследовании,
написанном другом и женой писателя, собраны записи Пришвина за многие годы.
7. Korczak J. Pisma wybrane. Т. IV. S. 310.
8. Пришвина В. Путь к слову..., с. 25. У. Korczak J. Pisma... Т.IV. S. 323.
10. Пришвина В. Путь к слову..., с 255
11. Korczak J. Kiedy znow bede maly Warszawa, 1925.S,73.
12. Пришвина В. Путь к слову..., с.260.
13. Korczak J. Kiedy znow bede maly... S.73.
14. Ibid. S. 81.
15. Ibid. S. 111.
16. Пришвина В. Путь к слову..., c. 260.
17. Пришвин М. Весна света. М., 1955, с. 664.
18. Пришвина В. Путь к слову..., с. 150
19. Там же.
20. Там же, с. 142.
21. Там же, с. 135.
22. Пришвин М. Кладовая солнца. Сказка-быль. Свердловск, 1953, с. 665.
23. Пришвин М. Весна света..., с. 662.
|