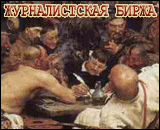|
Я почувствовала, как Зямочка
шевельнулся во мне. Толкнул кулачком и затих, затаился. Дикий, неистовый крик
разрывает меня на части, хочет вырваться, оглушить. Я вижу, как кровь
растекается по земле. Моя кровь. Нет! Не нужно смотреть вниз на свой палец под
железным стволом автомата. Поднимаю голову, вижу удивленные глаза. Длинный рыжий
солдат с разными ушами. Одно маленькое, второе большое. Если я не выдержу, если
я закричу, он перестанет давить мой палец. Он поднимет ствол и выстрелит в
Зямочку. Он убьет моего Зямочку. Моего Зямочку. Моего мальчика, которого я еще
никогда не видела. "Не бойся, сынок! Не бойся! Я не закричу".
* * *
Две сестренки - Белочка и Эсфирь. Они побежали к лодке. Все побежали в разные
стороны, а они побежали к лодке. Эсфирь хорошо гребла. Белочка, наверное, сидела
на корточках на дне. Ее не было видно. Но потом, когда начали стрелять, она
поднялась зачем-то. Нет! Я знаю зачем. Она загораживала собой Эсфирь. Куда они
плыли? Назад в Польшу, к фашистам. Они не знали, что делать, куда бежать. Никто
не знал, куда бежать. На том ~ родном берегу - фашисты, на этом - советские
солдаты. Они все стреляли в Белочку и Эсфирь. Почему? Откуда я знаю. Может быть,
был приказ убить Белочку и Эсфирь, и меня, и Зямочку, и моего брата Якова,
который остался там, в нашем красивом доме на горе. В Польше. Яков не мог
ходить, у него отнялись ноги.
Я помню красный закат над рекой. Огромные деревья, запутанные в огромных
облаках. Отец. Отец опускал большую руку на мою голову: "Смотри, Рахиль! Там, на
востоке, там Россия! Там хорошо". Он так думал. Он остался в Польше. Он остался
с Яковом. И мама осталась. Их расстреляли. И Белочку. И Эсфирь. Я помню красный
закат. И лодку. Она легонько покачивалась на волнах. Девочки лежали в ней. На
деревянном дне. Как в колыбели... Я все видела. Я никуда не бежала. Я не могла
бежать. Сидела в глубокой яме. Умоляла Зямочку не плакать. Разве он мог
понимать? Ему было три месяца. Не знаю. Он не плакал. Он молчал. Сначала спал, а
потом играл с Белочкиными золотыми часиками. Белочка дала их ему поиграть, когда
мы переходили границу. Гриша хотел отдать Белочке часики, но он... Он не успел.
Девочки побежали к лодке.
* * *
Зной. Пот. Соленый, едкий. Щиплет, саднит, застилает глаза. Я вижу Гришу! Он
там, в эшелоне. Его сейчас увезут! Куда-то... Куда? Еще несколько мгновений и я
останусь одна. Одна! Нет! С Зямочкой. С Зямочкой! А Гриша? Что будет с ним? Бегу
к вагону, задыхаюсь. Как больно оцарапаные щеки... Эшелон трогается...
Медленно... Я успею! Гриша поможет мне. Он сильный! Он подхватит нас с Зямочкой.
Мы будем вместе! Опять вместе! Два советских солдата оттаскивают меня от вагона.
Я не могу вырваться. Господи! Дай мне силы! Гриша что-то кричит. Все люди что-то
кричат. На вокзале. В эшелоне. Они кричат друг другу. Гриша кричит мне.
- Я не слышу! Я ничего не слышу! Гриша, родной!
Кричи громче.
- Рахиля! Любимая! Я назначаю тебе свидание в Сибири, в Омске. На площади
Ленина. У памятника. Каждую субботу.
Гриша шутит. Он всегда шутит. Только потом, несколько лет спустя, я узнаю, что в
России во всех городах есть главная площадь с именем Ленина и памятником. Я вижу
голые рельсы. Они полыхают на солнце. От них еще жарче. От них раскаляется
воздух. Все! Нет больше моего Гриши! Есть немецкий шпион, который не знает
немецкого языка. Есть немецкий шпион, которого увозят в Сибирь.
Солдаты что-то говорят мне по-русски. Потом по-украински. Один из них говорит
по-украински. Плавно. Распевно. Я немного понимаю. Некоторые слова. Но плохо,
плохо соображаю что делать. Забираю у Зямочки Белочкины часики, отдаю их
солдату, прошу показать куда идти, куда идти.
- Омск, Сибирь, Гриша - мой муж.
Солдат понимает меня. Мы долго идем вдоль рельс, куда-то на задние пути. Солдат
торопит, хочет взять Зямочку, но я так кричу, что он больше не прикасается к
нему. Там, на задних путях стоит большой эшелон, и вокруг много-много людей.
Наверное сотни или тысячи. Я не понимаю, как все они могут поместиться в этом
поезде. Солдат узнает, что эшелон едет в Ташкент. Он радостно хлопает меня по
плечу, твердит: "Паночка! Тепло! Жарко! Персики!" Я шепчу странные, неизвестные
мне слова: "Сибирь. Омск. Ленин". Зямочка плачет. Солдат дает ему Белочкины
часики. Но он все равно плачет. Он хочет молока. Я сажусь на грязный деревянный
ящик. Даю ему грудь. Я вижу Зямочкин лоб, длинные черные ресницы, как у девочки.
Солдат достает фотографию, показывает мне. Красивая женщина с блестящими
светлыми волосами держит голенького малыша. Я смотрю на пухленькие ручки, словно
перевязанные ниточками. Нежные складочки подмышками. Оцепенение... Что-то
медленно движется за фотографией. Солдат выхватывает ее из моих рук:
- Папочка! Паночка! Быстрее. Поезд! Поезд уйдет.
Я вижу, как люди втискиваются в товарные вагоны. Кричат что-то непонятное.
Высокий старик с палкой скачет на деревянном костыле, вталкивает женщину со
свертком. Пихает, пихает...
- Паночка! Поезжайте! Ташкент! Тепло! Персики!
Солдат опять силой тащит меня к вагону.
Я кричу:
- Сибирь! Сибирь! Омск. Ленин.
Он не слушает, тащит. Все. Последний вагон. Солдат подхватывает меня, сажает на
подножку. Сует какой-то мешок. Долго стоит, не шевелясь. Я вижу, как он
уменьшается... уменьшается...
Какой красивый закат. Бордовый на синем. Деревья темнеют, сливаются,
превращаются в единое существо. Оно волнуется, дышит, сыплет ночной росой. Мне
зябко. Я прижимаюсь к Зямочке. Я не вижу в темноте его личико, только слышу, как
нежно чмокают рядом милые губки.
Ночь... Тихо-тихо. Я привыкла к стуку колес. Я не слышу его. Изредка люди
бранятся в вагоне. Какие-то непонятные резкие слова. Люди стоят, им негде сесть.
Мне лучше, я сижу. Сижу на подножке. Только бы не уснуть, не выронить Зямочку...
Сладкая... сладкая дрема. Белые вишни. Розовое шифоновое платье. Я купаюсь в
вишневых облаках. Мягкие, мягкие Гришины волосы:
- Ты пахнешь вишневым вареньем!
Он смеется, смеется... Весело...
- Они еще не отцвели, не созрели. Мы еще не собрали их в большие корзины. Ты еще
не кормила меня розовой вишневой пенкой. Сахарной пенкой! Почему? Почему же я
пахну вишневым вареньем?
Гриша целует меня в губы... Долго-долго... Я не вижу его. Я хочу увидеть его.
Солнце. Солнце. Жгучее, ослепляющее... Открываю глаза. Солнце! Большое, горячее.
Мирное. Ничего не могу понять. Затекли руки. Я так крепко прижимала Зямочку.
Солнечный лучик щекочет его щечки, сверкает в длинных ресницах. Мне хочется
спрыгнуть с подножки, распрямиться, взмахнуть руками, побежать в душистые
полевые цветы.
- Таш-кент. Таш-кент. Таш-кент.
Это стучат колеса. Я возвращаю вчерашний день. Я все вспомнила. Я еду в Ташкент.
- За-чем? За-чем? За-чем? Я не хочу в Ташкент!
Деревянные домики, беленый вокзал. Жмеринка. Я не умею прочесть. Люди в вагоне
говорят это слово -Жмеринка. Поезд останавливается. Деревянный колодец. Звонкое
ведро. Студеная вода. Вода! Сладкая, прозрачная. От нее ломит зубы и кружится
голова. Надо постирать Зямочкины пеленочки. Успеть! Успеть! Успеть! Зямочка
проснулся, лежит на траве около меня. Смотрит по сторонам. Такой серьезный.
Внимательный. Интересно, что он видит? Нет! Как он видит? Так же как я или
по-другому, иначе? Кладу пеленки в мешок. Беру Зямочку. Он ищет грудь, тыкается
в мою кофточку, теребит ручонками. Сейчас! Сейчас! Ко мне подходит высокий
старик с деревянным костылем. Это он вчера втискивал в вагон женщину. Старик
что-то говорит мне по-русски, по-белорусски, по-украински. Он спрашивает, откуда
я бегу, где родилась, сколько месяцев Зямочке. Просит никуда не уходить, а сам
идет через рельсы на другую сторону. Потом возвращается с молодой женщиной.
Красивой, светловолосой, немного похожей на ту, что я видела вчера на фотографии
солдата. Старик несет
на руках ребенка, Настиного сына и своего внучка - Алексея. Настя падает около
меня на колени. Рыдает, умоляет о чем-то. Я ничего не понимаю, я боюсь, что эти
жуткие рыдания напугают Зямочку. Старик успокаивает Настю, объясняет мне, что у
нее нет молока, и ребенок умирает от голода. Я кладу Зямочку на траву. Беру
Алексея. Худенькие голубоватые ручки, тусклые глаза. Мне вдруг кажется, что он
умер. Освобождаю левую грудь, которую еще не успела дать Зямочке. Долго вожу
соском по губам мальчика. Они не шевелятся. Совсем не шевелятся. И тогда я
сдавливаю грудь. Теплая молочная струя брызжет на младенческое личико. Я вижу,
как оно оживает! Оживает на моих глазах. Слабо прижимается к соску. У него даже
нет сил сосать, но я сжимаю, сильно сжимаю грудь, чтобы струя сама попадала ему
в ротик...
* * *
Какой звонкий полдень. Крохотный зяблик с огромной песней на весь лес, на всю
речку, на все небо. Трели, трелинки сливаются, разливаются, переливаются в
радужных брызгах, прозрачных капельках, рассыпаются по Настиным пшеничным косам,
по мягким плечам. Около воды разноцветной горкой постираные пеленочки. Мы бегаем
по берегу, брызгаемся.
- Эй, девки! На поезд опоздаете! Увезу я ваших пар
ней в дальние края.
Степан Иванович. Сидит на подножке вагона. Держит Алешу и Зямочку.
- А парни - красавцы!
Дедушка угукает, надувает щеки, смешно чмокает, посвистывает.
- Пойдем, дочки! Пойдем, милые! Мужиков кормить пора.
Поезд гудит густым, предупредительным басом. Мы собираем пеленочки, забегаем в
вагон. Тесно. Степан Иванович с Настей стоят. Я сажусь на мешки. Беру Алешу. Он
уже начал капризничать.
- Проголодался, маленький. Молочка захотел.
Малыш жадно хватает грудь. Затихает. Блаженно чмокает. Розовые щечки, розовые
ручки. Совсем другой мальчик. Живой, здоровенький. Прикрывает глазки. Осторожно
передаю его Степану Ивановичу. Беру Зямочку. Кормлю, потом уступаю место Насте.
Она кладет себе на руки обоих малышей. Поет какую-то незнакомую мне песню. Я не
понимаю слов, просто наслаждаюсь мелодией. Люди в вагоне больше не бранятся, не
ругаются. Все затихают. Забывают на несколько мгновений о том, что негде сидеть,
стоять, что нечего есть. Забывают о войне.
- Настя, о чем твоя песня?
- Об Алеше, о Зямочке, о пшеничном поле, по ко
торому они бегут вдвоем, взявшись за руки. Два мальчи
ка.
- Неужели есть такая песня?
- Есть, Рахиля. Песня о двух братьях.
Я вышла к горной реке. Мне жутко хочется броситься в нее с разбегу. Стало
страшно от ощущения сильного потока ледяной прозрачной воды. Но желание все же
очутиться в ней, почувствовать ее вкус на губах, захлебнуться студеной струей,
заскользить ступнями по гладким подводным камням... Желание, страстное, как
июльское полуденное солнце, пересиливает. И я уже поворачиваюсь решительно, как
вдруг Гриша неожиданно
возникает на моем пути, берет мою голову в ладони и нежно-нежно, как
новорожденного, целует глаза. Я выскакиваю, вырываюсь, вылетаю из его ладоней.
Он кричит мне вслед:
- Не вбегай опрометью! Ударишься о камни!
Мне страшно, но: "Нет! Нет! Только опрометью, только сразу, в один миг!" Я
приготавливаюсь к ударам о камни, к ледяной обжигающей воде, к стремительному
потоку, уносящему меня вниз, к подножию горы. Я приготавливаюсь ко всему... Но
когда я вбегаю в реку, все оказывается иначе. Мягкое дно. Да! Да! Я ощущаю
покой. Странный, неведомый мне раньше, блаженный покой. Я не плыву. Я иду по
дну. Камни расступаются, а когда мне хочется провести ладонью по их глянцевым
спинам, камни подставляют их, как живые. Я забываю обо всем, обо всех, даже о
Грише. Мне хорошо, как никогда в жизни. Я не чувствую ни времени, ни
пространства. Я словно растворяюсь в нежной горной воде. И вдруг пронзительный
крик ребенка рассекает ее на две части...
Открываю глаза. Алеша. Это его крик. Мы лежим на черной земле. Я ничего не
понимаю. Хочу разжать пальцы, чтобы выпустить ребенка, но они не разжимаются.
Они занемели. Целую личико мальчика. Шепчу, шепчу ему что-то ласковое. Он
плачет, плачет, тыкается мне в грудь. Не могу! Не могу разжать пальцы! Кладу
Алешу на землю, хочу расстегнуть пуговицы на кофте. Ничего не получается. В
каком-то отупении рву скукоженными руками края застежки, пуговицы... Наконец,
беру мальчика на руки. Он жадно хватает сосок, затихает...
Вода снова принимает меня в свои нежные объятия, плавно расступается, исчезает.
Я вижу огромные гроздья винограда. Сочные, прозрачные ягоды. В каждой
виноградине сияет солнце. Оно не слепит мне глаза. Оно ласковое, как вода...
- Рахиль! Рахиль! Ты живая! Родная моя! Доченька!
Открываю глаза.
Кровь. Маленькая алая струйка. Она течет по щеке Степана Ивановича. Он гладит
мои волосы, ищет мое дыхание. Я чувствую на своих веках его горячие слезы.
- Рахиль! Доченька... Ты живая. И Алешенька жи
вой...
Я пытаюсь понять, что происходит. Почему мы лежим на черной земле? Почему Степан
Иванович в крови? Почему он плачет? Ничего! Ничего не понимаю. Ничего не могу
произнести. Ничего не могу сказать! Ни по-украински, ни по-русски, ни
по-еврейски.
Старик прижимает к себе мою голову:
- Это контузия. От взрывной волны. Это пройдет.
Скоро пройдет.
И я вдруг вижу развороченные обгоревшие вагоны и мертвых обгоревших людей, и
тусклое закатное солнце, и слышу гулкую вязкую тишину...
- Зямочка! Зямочка! Зямочка!
Степан Иванович не слышит ни одного звука, но он понимает по движению моих губ,
по моим глазам...
- Рахиля! Доченька... Его нет. Родная! Прости меня!
Прости. Я не смог!
Слова старика звучат далеко-далеко, они едва пробиваются сквозь мою вязкую
густую тишину. Я вскакиваю, бегу вдоль рельсов, запинаюсь об остатки вагонов,
останки людей...
Степан Иванович падает на черную землю. Он не может больше бежать за мной.
Никогда в жизни он не ненавидел так свой деревянный костыль. Никогда...
* * *
Я вижу, как падают комья земли, как старик тащит по этим комьям Настино тело,
как он прижимает к себе
обгорелый сверточек. Он сказал, что это Зямочка. Я не поверила ему. Я
отшатнулась от пеленок. Я смотрю дикими глазами:
- Вот он Зямочка!
Мой Зямочка! А это... Это Алеша. Настя умерла, Алеша умер. А Зямочка мой живой.
Он спит, и его черные реснички, длинные, как у девочки, тихонько вздрагивают во
сне. Мы поедем в Сибирь. К Грише. Омск! Ленин! Зямочка живой! Алеша умер! Алеша
умер...
Я вижу ужас в глазах Степана Ивановича. Он скрещивает две березовые палочки,
связывает их тряпкой, вкапывает крест в черную землю и рядом выкладывает на этой
черной земле белыми березовыми веточками шестиконечную звездочку. Я не понимаю:
зачем? Зачем звездочка? Чья она? Чья? Кому? Зямочке!
Бросаюсь на старика. Бью его, рву одежду, волосы: - Ты! Ты похоронил моего
Зямочку! Ты убил его! Ты убил его и выложил звезду на могилке! Убийца! Убийца!
Степан Иванович плачет, закрывает лицо руками... и вдруг кричит оглушительно...
на всю землю, так, чтобы его голос прорвался через мою вязкую густую тишину:
- Я похоронил Алешу! Я похоронил Алешу! Его отец еврей! Алеша не крещеный. Он
вашей веры. Твоей веры.
Это его звезда. Алешина звезда! Алешина звезда! Алешина...
* * *
Белое молоко. Белая скатерть. Белые занавески. Белая пеленка. Зямочка крепко
сжимает ручонками мои пальцы. Пытается сесть. Я впервые чувствую его силу. Он
кряхтит, сердится. Он не отвечает на мои агуканья. Он занят важным делом.
Сколько сил Зямочка прикладывает к достижению своей цели. Мне хочется помочь ему
чуть-чуть, но я сдерживаю себя. Сам. Он должен сам.
Дородная, пышнотелая украинка подает мне парное
молоко. Я чувствую его живое тепло, его терпкий травяной запах. Господи! Какое
блаженство. Пью медленно-медленно. Мне хочется пить это молоко тысячу лет, не
останавливаясь...
Раскрасневшийся после бани Степан Иванович тоже пьет парное молоко.
Наслаждается... Украинка наклоняется к Зямочке:
- Какой красивый мальчик. Сколько ему?
- Три месяца.
- Крупный.
- Пять ему. Пять месяцев. Обезумела Рахиль после
бомбежки, не помнит ничего.
Я с ужасом смотрю на Степана Ивановича.
- Три месяца Зямочке моему! Три! Он десятого июня
родился.
- Он родился 24 марта.
- Нет! Нет! Нет!
Я больше не чувствую запаха молока. Я не вижу белой скатерти, белых занавесок,
белой пеленки. Только гроздья винограда. Крупные, сочные. И в каждой виноградине
сияет солнце.
* * *
- Что же ты, Рахиля, доченька, опять сознание потеряла. Нельзя так. Зямочка весь
извелся. Кормить его юра. Он ведь, дурачок, от парного молока отказывается,
только твое ему подавай, барину.
Открываю глаза. Степан Иванович гладит меня по голове. Белая скатерть. Белые
занавески... Я вдруг отчетливо вспоминаю все. Все, до последнего мгновения. Как
мы ехали в поезде, как ругались люди, как я отдала Насте Зямочку, как я взяла у
Степана Ивановича Алешу и стала его кормить, как мы услышали гул самолетов и
взрывы, как я шла по горной реке, как Степан Иванович бросал комья черной земли.
И я все-все поняла. И горячие слезы обожгли мое лицо. И Степан Иванович понял,
что мое безумие прошло. Я увидела боль, бесконечную боль в его глазах, но все же
сказала:
- Если бы в ту минуту я кормила не Алешу, а Зямочку, он остался бы жив.
- Не плачь, дочка. Не плачь, родная. Он живой. Он рядом. Он всегда будет с
тобой. Я никому никогда не открою эту тайну. Вот он, твой Зямочка, с черными
ресницами, длинными, как у девочки.
Я прижимаюсь к теплой морщинистой руке старика и шепчу, шепчу древнюю еврейскую
молитву, которой еще в детстве учил меня мой отец: "Шма Исраэль! Адонай
Элогейну, Адонай Эхад..".
Я открыла дверь и обмерла. Передо мной в морозных клубах пара стоял Зямочка.
Только огромный и взрослый. Те же синие глаза, те же брови, губы, подбородок с
ямочкой. Никогда не видела я раньше, чтобы отец был так похож на сына... Или сын
на отца. Да, так правильно. Сын на отца. Но я знала сначала сына, а потом...
потом отца. Господи! Как я боялась этой встречи! И всего, что последует потом.
Как я кляла себя за то, что написала ему, Лазарю, про Алешу тогда, три года
назад, когда умер Степан Иванович. Умер у меня на руках в первую неделю нашего
спокойствия. В Омске. Он задыхался и шептал, шептал: "Рахиля... Рахиля...
Настенька... Там в блокноте... в мешке... адрес... адрес Лазаря... воинская
часть...
Напиши... напиши, что Зямочка... что Алешенька... живой наш мальчик... живой...
здоровенький... Не лишай отца родного... Грех это... Напиши".
И я написала, и через два месяца получила ответ. И еще, еще. Много, много писем.
Три года писем. Мне больше никто не писал. Никто. Только Лазарь.
...Он вошел весь ледяной, заиндевевший, огромный...
- Рахиля! Какая ты красивая! Родная!
И сразу обнял меня. И я почувствовала, что всегда знала его и жила с ним раньше
вместе тысячу лет.
* * *
...Этот запах. Дурманящий, головокружительный. Удивительный. Запах его
разгоряченного сильного тела. Его глухой шепот: "Рахиля, родная, спасибо тебе.
Рахиля..". Он целует меня долго-долго до безумия и баюкает, баюкает на руках то
меня, то Зямочку и поет, поет густым негромким басом. Русское, еврейское,
белорусское. Какое счастье светится в его синих глазах. А я... я хочу запомнить
хоть немного, хоть несколько слов из этих песен. Он шутит:
- Уеду, а ты будешь петь Лазаря.
Нет! Я не понимаю его слов! Не хочу понимать! Как он уедет? Куда! На войну? На
смерть? В тот ужас, где я была три года назад...
* * *
...Я штопаю его гимнастерку. Я вдыхаю, вдыхаю этот запах. Вспоминаю старую
девичью примету. Если шьешь, значит, пришьешь, навсегда будет твой.
" Не боишься?
Лазарь смеется. Прижимает меня к себе, а потом берет и отрывает у гимнастерки
рукав.
- Пришей, Рахиля! Пришей! На всю жизнь пришей
твою и мою. На двести лет!
И Зямочка тоже пытается оторвать свой рукав:
- Меня тоже пришей.
Бегу к соседской бабушке Варваре, прошу козьего пуха, чтобы связать Лазарю носки
и рукавицы. И вяжу, вяжу пушистую нежную пряжу. Я так загадала, если успею
связать за три дня, успею до его отъезда, не ранят его больше. И вяжу, вяжу, как
заколдованная принцесса рубашки из крапивы одиннадцати братьям-лебедям.
* * *
Золоченый свадебный шатер на палочках. Гриша склоняется ко мне:
- Рахиль, посмотри на самого счастливого в мире человека!
- Нет! Нет! Это я - самая счастливая в мире.
Раввин разбивает хрустальный фужер. Осколки... Осколки... Осколки. Гриша
опускается на пол, пытается собрать, сложить.
- Гриша! Что ты делаешь? Это же символ! Воспоми
нание о разрушенном Храме.
Все исчезают. Никого нет. Ни отца, ни мамы, ни братьев, ни раввина. Только я и
Гриша.
- Гриша! Ты не соберешь их. Они разлетелись! Маленькие, невидимые. Ты не
склеишь, никто не может вернуть разрушенный Храм.
- Это наш Храм, Рахиль. Наш с тобой и Зямочкин.
Помоги мне! Помоги. Я не смогу один.
Опускаюсь на колени. Белое платье пачкается о грязный пол. Фата застилает глаза.
Ничего не вижу. Только окровавленные Гришины руки, израненные стеклами.
Открываю глаза... Провожу ладонью по своим мокрым щекам, по черным Зямочкиным
кудрям. Это сон.
Сон.
- Господи! Что я наделала! Гриша! Прости меня. Прости. Где ты, Гришенька?
Мне страшно. Я смотрю на Зямочкин подбородок с ямочкой. Лазарь. Лазарь. Лазарь.
* * *
Лазарь вошел в мою жизнь, как буйный весенний ветер, сметающий на своем пути все
преграды. Распахнул настежь окна, закружил в пьянящем восторге.
"Сегодня май, и ты моя!" - я держу в руках диковинную немецкую открытку. Два
малыша с крылышками и букеты фиалок. "Поцелуй Зямочку в родинку на плече. Я
Кавалер Ордена Красной Звезды. Рахиля! Я кавалер. А ты моя Дама сердца. Здесь, в
Германии, такая жара, настоящее лето. Все цветет. Я не могу надевать твои
пуховые носки, но, чтобы уберечься от пуль, ношу их в карманах. Честное слово! Я
командую полком и носки ношу тайком! Рахиля, родная, каждую ночь я глажу во сне
твои шелковые волосы. У нас в полку есть один парень, он учился до войны в
университете. Психолог. Он говорит, что если Зямочка боится темноты -- это очень
хорошо. Значит, у него развито воображение. Наш творческая личность. Он будет
писателем или художником. Не заставляй его засыпать в темноте. Это идет само.
Как я хочу увидеть его! Он высокий, да? Выше всех мальчиков его возраста.
Хорошо, что бабушка Варвара учит Зямочку русскому языку. Скоро-скоро и я буду
учить моего сыночка чему-нибудь..."
...Какой прозрачный воздух. В Польше тоже сейчас тепло. Все цветет. Фиалки...
Гриша дарил мне фиалки. Я украшала цветами волосы, а он прижимался щекой к моему
животу:
- Пусть мой Зямочка постучит мне кулачком.
Я иду по площади Ленина, смотрю на каменную руку, протянутую в прозрачное
весеннее небо. "Я назначаю тебе свидание каждую субботу!" Где ты, Гриша?
* * *
Просыпаюсь от гула. Что-то шумит. Грохочет. Сталкивается. Разлетается. Открываю
створки. Нежный едва уловимый запах сирени врывается в комнату вместе с I этим
странным, непонятным гулом. Что это? Выбегаю из дома. Ледоход! Огромные
неуклюжие льдины. Добрые, как белые медвежата. Совсем живые.
- Зямочка! Одевайся! Бежим скорее смотреть ледо
ход.
Несемся по обрыву вниз к реке, перегоняем друг друга.
- Мама, я хочу на льдину! Я хочу поплыть вместе с
ними!
- Я тоже хочу, Зямочка.
Он берет палку, останавливает один маленький айсберг около берега.
- Это будет наш плотик. Залезай скорей. Только не поворачивайся. Смотри на реку.
Правда ведь, похоже, что мы плывем вместе с ними?
Да. Очень похоже. Очень. Одна льдина зацепилась за нашу и тоже
остановилась, обнажила свой прозрачный неровный край с черными прожилками
прошлогодней земли.
- Мамочка, смотри! Смотри - стрекоза! Стрекоза на льдине! Она живая, правда?
Живая. У нее крылышки, как тонкие льдинки и глаза голубые. Она смотрит на нас!
- Рахиль! Рахиль!
Бабушка Варвара что-то кричит мне с обрыва. Машет, машет.
- Рахиль!
Я ничего не слышу из-за грохота льдин, Зямочкиного счастливого смеха.
- Рахиль!
Бабушка Варвара бежит с обрыва к нам, к берегу. Запинается.
- Рахиль! Война кончилась! Война кончилась! Побе
да! Рахиля! Победа.
- Бабушка Варвара, посмотри скорее, стрекоза на
льдине! Живая, настоящая! Посмотри!
- Она не живая, Зямочка.
- Живая! У нее крылышки дрожат, и глаза, как у
мамы, голубые.
Я смотрю, как Зямочка пытается отколоть краешек льдины. Война кончилась!
Значит... Значит, все позади и больше никогда не повторится? Никогда! А что
впереди? Какая она, новая жизнь? Мирная. Без войны... Зямочка поднимает стрекозу
на льдине высоко-высоко над головой. Мне кажется, что стрекоза действительно
взлетит сейчас. Оттолкнется тонкими беззащитными лапками от ледяного края,
взмахнет прозрачными крылышками и )летит, полетит навстречу жарким солнечным
лучам, нежному, ласковому ветру... Свободная. Легкая. Счастливая.
* * *
Запотевшее окно трамвая. Зямочка рисует на стекле. Я вижу сквозь прозрачные
линии белые бесшумные
хлопья снега. Мне тоже хочется рисовать на мокром стекле. За окном сыро, зябко.
В вагоне тепло, уютно...
Мы бредем по парку. Пахнет первым снегом, прелыми] листьями, осенней сыростью.
- Мамочка, когда вернется наш папа?
- Скоро, Зямочка.
- Но ведь война кончилась еще весной.
- Солдаты помогают строить разрушенные города.
- Мы бы тоже помогали папе строить разрушенные
города, если бы он разрешил приехать к нему.
- Когда-нибудь мы построим втроем свой волшебный
город.
- А кто в нем будет жить?
- Ты, папа и я.
- В целом городе только три человека? Так не бывает.
- Бывает, Зямочка. В мире есть удивительные города.
Сырые деревяшки едва скрипят под ногами. Снежин-ки? Дождинки? Мелкие капельки.
Дрожат, дрожат. Или это люди. Или деревья. Бритый мальчишка с маленьким чубчиком
смешно чихает и долго неуклюже вытирает нос рукавом фуфайки. Какая грустная
мелодия. Вальс. Где-то далеко-далеко. Тихо-тихо. Небо плачет. Скрипка плачет.
Скрипка? Да. Это скрипка. Откуда? Иду по деревянной мостовой. Иду, как
завороженная. Я ищу начало музыки. Зачем? Не знаю. Опаздываю на работу. Иду
совсем в другую сторону. Правильно! Правильно! Мелодия звучит громче, громче.
Ничего не чувствую. Снега, дождя, листьев. Только музыку...
- Гриша!
Я кричу страшно, пронзительно. Он сидит около мятника Ленина.
- Гриша!
- Рахиль, родная! Ты пришла ко мне на свидание. Я знал, я знал, что ты придешь.
Я верил! Каждый день верил. Все пять лет.
Прижимаюсь к его горячей щеке. Жар! У него жар.
- Гриша! Гришенька, что с тобой? Ты болен?
- Это пустяки. Это все пустяки. Я встретил тебя! Где Зямочка? Наш Зямочка? Он
жив?
- Да! Да! Он рядом. Он дома.
Зямочка смущенно смотрит на Гришу.
- Ты кто?
- Я? Я... твой папа.
- Папа! Папочка! Ты вернулся! Ты построил все города и вернулся! Теперь мы будем
строить наш волшебный город. Для тебя, меня и мамы.
Гришины худые руки обнимают крепкие мальчишечьи плечи...
Ночью я выхожу из дома. Я копаю мокрую осеннюю землю. Черную, мягкую, снежную. Я
кладу в нее деревянную узорную шкатулку. Это могилка для писем Лазаря. Разве
можно хоронить письма? Их надо сжигать. Нет! Я скажу Грише. Потом, позже, когда
он окрепнет, поправится. Я скажу правду. Он поймет. Бросаю черные комья на
деревянную крышку. Что-то страшно знакомое, жуткое вспыхивает в моем сознании.
Развороченные вагоны. Шпалы. "Сегодня май и ты моя!" Где ты, Лазарь? Господи!
Что же будет?
* * *
В комнате жарко. Гришу знобит. Я много топлю. Мы лепим пельмени. Бабушка
Варвара, Гриша, я и Зямочка. Завтра Новый год.
- Мамочка, надо сделать счастливый пельмень.
- А с чем?
- Корочку положи.
- Нет, лучше зубочек чеснока.
Настоящие послевоенные пельмени. Белое тесто. I Красный фарш из трех сортов:
говядина, баранина и гусь. Бабушка Варвара принесла его в честь праздника. Я
сделала Зямочке из перьев костюм индейца. Гриша раскрасил их чернилами и
марганцовкой.
- Мамочка! А мне попадется счастливый пельмень?
- Не знаю. Кто счастливый, тому и попадется.
- А я буду много-много наедаться, и мне попадется.
- Правильно.
- Папа, а тебе когда-нибудь попадался счастливый
пельмень?
- Нет.
- Бедненький. А мне всегда попадается. И в том году,
и в позатом, и в позапозатом. Знаешь, что нужно сделать, 1 если попадется?
Желание загадать.
- Думаешь, сбудется?
- У меня всегда сбывается. Мамочка, я придумал, I
давай сделаем четыре счастливых пельменя: для тебя, ]
для меня, для папы и для бабушки Варвары, чтобы у всех
желания сбылись.
- Давай. Только знаешь, все эти пельмени могут ока
заться у одного человека.
Зямочка кладет голову на руки. Задумывается. Господи! Как он похож на Лазаря. Он
даже голову также клал на руки, когда задумывался. Отчего это происходит?
Одинаковая внешность, походка, движения. Словно один и тот же человек с разницей
в двадцать семь лет.
- Я придумал! Если мне попадется первый пельмень,
я его съем, а второй отдам тебе, а третий - папе, а четвертый - бабушке Варваре,
а пятый - Кузьме.
- Коту-то зачем пельмень с чесноком?
- У Кузьмы тоже есть новогоднее желание.
Желтые прозрачные капли бараньего жира плавают в горячем молоке. Пахнет
лекарствами, кислым тестом, влажным козьим пухом. Гриша пьет горячее молоко. У
него опять обострение туберкулеза. Ему невкусно. Он морщится, отставляет стакан.
- Гришенька, ну что ты, как ребенок. Выпей залпом.
- Пусть чуть остынет. Иди сюда. Иди ко мне.
Подхожу. Сажусь рядом.
- Рахиль, ты... ты такая красивая, как царица Эстер.
Ты стала еще красивее за эти годы. Рахиля... ты... ты не
бросишь меня?
- Почему? Почему ты подумал об этом?
- Не знаю... Мне сегодня снилась Польша. Я кружил,
кружил тебя на руках. Помнишь нашу сосну над обрывом? Сосну с двойным стволом. Такую странную сосну,
как будто двое влюбленных.
- Ой! Гришенька! Мне же надо сбегать на работу в
ателье. Я совсем забыла. В три часа привезут сосны.
Дома поставим. Нарядим.
- Нет! Нет! Не надо дома сосну ставить! Нет! Он сжимает горячей рукой мое
запястье. Мне больно. Очень больно.
- Почему? Гриша, почему?
- Я не могу тебе объяснить. Это лесоповал. Сосны... Сосны... Я ненавижу сосны.
Запах смолы. Желтые слезы. Пять лет я рубил, рубил, рубил их стволы, и они
плакали, плакали! Желтыми слезами... Не надо! Прошу тебя...
К ПРОДОЛЖЕНИЮ |