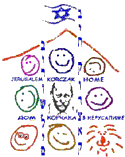|
| |||
|
Януш Корчак
ЛЕТО В МИХАЛУВКЕ ОКОНЧАНИЕ | |||
|
Улитка. — Лягушка. — Адамский убил слепня. —
Улитка, улитка, высуни рога, Вокруг Фурткевича, который держит улитку, столпилось человек двадцать. Они стоят совсем тихо, даже дышать боятся. Фурткевич сказал, что улитка обязательно высунет рога, только должно быть очень тихо, а то ничего не выйдет. И улитка действительно высунула рога. Это было замечательно. А потом ребята разбежались, потому что каждому хочется самому найти улитку и говорить ей: Улитка, улитка, высуни рога, Дам тебе хлеба, кусок пирога. Кто-то нашел раковину, но она оказалась пустой. — В ней, наверное, лягушка живет. — Вот дурак, это у тебя в носу лягушата живут! Радужные стрекозы поднимаются над водой. — Ой, какие большие комары!.. А тут кто-то крикнул, что ребята лягушку поймали. На спине у лягушки черные точечки, ну просто красавица! Все хотят поглядеть на черные точечки. Ришер дал подержать лягушку Брифману, Брифман — Беде, а Беда, кажется, не прочь ее присвоить. Как лягушка запрыгала, когда ее выпустили на волю! Маленький Адамский шапкой убил наповал слепня. Дело было так: слепень налетел на маленького Адамского, видно, хотел его съесть. Адамский пустился бежать — слепень за ним. Адамский сорвал с головы шапку и — хлоп по слепню. Слепень замертво упал на траву. Все поздравляют Адамского с победой и с любопытством разглядывают убитого зверя. Ребята сбегают с горки к речке или скатываются по травянистому склону и снова взбираются наверх. Фуксбаум нашел ягоду голубики и дал товарищу посмотреть. Товарищ голубику съел, а взамен дал Фуксбауму гриб. Гриб пришлось выбросить, потому что он ядовитый. А рядом в лесу растет чудесный папоротник с большими резными листьями. Мы садимся и ждем завтрака. — Там, где небо опирается на лес, конец света, — говорит один. — Неправда, земля круглая, и в Америке люди ходят вверх ногами. — Дурак! У меня дядя в Америке, и вовсе он не ходит вверх ногами. Бромберг пробует ходить на голове, по-американски, его примеру следуют и другие. Всем хочется убедиться, может ли это быть, чтобы в Америке люди ходили вверх ногами. Мы узнаём, что можно писать: бук и Буг, первое — дерево, а второе — река; узнаём, что в лавке за два гроша продается домино, только его еще нужно вырезать и наклеить на кусочки картона; узнаём, что у Маргулеса есть серебряные часы, которые мама держит в комоде. — Да, как же, небось и рядом с серебром не лежали! Отец Маргулеса снимал в аренду фруктовый сад, у него было много груш, вишен, слив — и серебряные часы. Однажды, когда отец сторожил ночью сад, он простудился и вскоре умер, а мама спрятала часы, чтобы отдать сыну, когда тот вырастет. И ребята верят, что у Маргулеса есть серебряные часы. Воспитатель, господин Герман, предлагает спеть хором, чтобы ребята отдохнули перед завтраком. Завтрак в лесу. Мальчики спорят, в какой группе дежурный быстрее раздаст хлеб. — У нас уже двадцатый получил, а у них только четырнадцатый, — говорят они с гордостью. Экономка приготовила ребятам сюрприз — вдруг появилась в лесу с ведром воды. А пить так хочется — жарко. На каждого приходится по полкружки. Несмотря на жару, в лапту играют все. Не растерять бы только мячи на лугу. А через три дня вылазка в Орловский лес за ягодами на весь день. Выступаем мы в поход, все в поход, все в поход! Эй, ребята, марш вперед, марш вперед, марш вперед! Землянику собирайте, собирайте, собирайте, Да проворней! Не зевайте, не зевайте, гей! Кто там хнычет по дороге, по дороге, по дороге: «У меня устали ноги, ноги, ноги, ноги, ноги!..» Он растяпа — сразу видно, сразу видно, сразу видно, Пусть растяпе будет стыдно! Будет стыдно! Пусть! До Орловского леса идти три версты с лишним. Первый привал в березовой роще, второй — на лужайке у железнодорожной насыпи, третий — подле засеянного клевером поля. Мы сидим у дороги, и пыль летит прямо на наш завтрак. — Идите, ребята, на поле, тут вон какая пылища, — говорит крестьянин. — Да ведь там клевер посеян, потопчут? — Чего там босые потопчут? Айда, ребята! Мое поле, я позволяю. Польский крестьянин! Посмотри получше на этих ребят. В городе их не пустят ни в один сад, сторож метлой прогонит их со двора, прохожий столкнет с тротуара, кучер огреет кнутом на мостовой. Ведь это «Мосейки». И ты не гонишь их из-под придорожной вербы, где они сели отдохнуть, а зовешь к себе на поле! Крестьянин весело и ласково улыбается детям, а ребятишки осторожно ступают по клеверу, чтобы не причинить убытка радушному хозяину. Он расспрашивает ребят, что они делают дома, в Варшаве, и объясняет, где в здешнем лесу больше всего «ягодов». А «ягодов» в Орловском лесу видимо-невидимо; земляника крупная, красная, — ребята думали, что это малина. Через час привезут обед. Милые дети! Сколько еще хотелось бы вам рассказать о том, чего вы не знаете и чего не знают многие люди, хотя они давно уже выросли!
Некрасивый Аншель. — Кто первый придумал
Аншель очень бледный и очень некрасивый мальчик — пожалуй, самый некрасивый во всей колонии. Товарищи его не любят, никто не хочет ходить с ним в паре, никто с ним не дружит. Аншель из-за всего ссорится, на всякий пустяк жалуется; а когда получит домино, раскладывает его один на столе или завернет в носовой платок и носит в кармане — сам не играет и другим не дает Аншель много ест — наверное, родители ему сказали, что если он будет много есть, то станет здоровым и сильным. А некрасивому мальчику очень хочется быть здоровым. Поэтому он и побоялся есть за обедом крыжовник, но и товарищам свою порцию не отдал. Когда идет дождь, так приятно подвернуть штаны и шлепать по лужам; воспитатель хоть и сердится, но ведь в воду он не полезет — на нем сапоги. А Аншель во время дождя кутается в свою пелерину или просится в спальню. Бывает, что он облокотится на стол на веранде и заснет, а по утрам он молится дольше всех и говорит, что играть по субботам в мяч грешно. А ведь игра в мяч — это не работа. Как-то раз Аншель нарвал букет цветов. Букет получился некрасивый: хилые желтые цветы собраны кое-как — ну просто пук сорной травы. Грозовский тоже любит желтые цветы, но совсем другие; Адамский-старший вставляет в свои букеты красивые зеленые листья. Это Прагер первый придумал так делать. У Прагера глаза голубые-голубые, он любит рвать незабудки и аир, и он всегда смеется, даже когда его кто-нибудь обидит. Только один раз заплакал, когда ему сказали, что отца, наверное, сошлют в такое место, где всегда холодно и снег. И Тырман, и Фром, и маленький Гуркевич умеют подбирать букеты, а Аншель нарвал одних сорняков — ну не сорняков, конечно, но уж очень некрасивых цветов и листьев. Но, если они ему нравятся, кому какое дело? А ребята выхватили у него букет и раскидали. И Аншель плакал. Когда взрослому человеку грустно, он знает, что горе пройдет и снова будет весело. Когда плачет ребенок, ему кажется, что он уже теперь всегда будет плакать и никогда не утешится. Аншелю взамен погибшего букета хотели дать ветку белой сирени, но он не взял; может быть, считал, что не достоин такого душистого цветка, а может быть, побоялся, что сирень принесет ему новые огорчения. Ребята не знают, что Аншель не родился вздорным и злым; сперва он был только некрасивый и слабый, и никто не хотел с ним играть, а теперь он уже и сам никого не любит и скорее выбросит крыжовник, чем даст его другому. Позже, когда Аншель привык к колонии и научился улыбаться, он уже не казался таким некрасивым, но друга у него по-прежнему не было. Иногда только Сикора играл с ним в домино. Сикора тоже больной, но ребята его любят и охотно с ним играют. Они понимают, что Сикора болен, а про Аншеля думают, что он просто всегда бледный и очень злой. Сикора болен уже давно. Говорят, он жил в сырой комнате, и у него стали болеть ноги. Его поили горьким лекарством и клали ему на сердце лед, а когда, наконец, боли и температура прошли, здоровье так и не вернулось. И вот боли возобновились. Сикора дышит часто-часто и кашляет. — Больно, — тихо говорит он и пробует улыбнуться, потому что ему не верится, что в колонии можно болеть. Сикору уложили в постель и дали ему очень горькое лекарство. Он сразу заснул. А вечером, когда ребята шли в спальню, им сказали, чтобы они вели себя тише и не будили больного. — Значит, Грозовский не будет сегодня играть на скрипке? — огорченно спрашивают ребята. — Нет, играть сегодня нельзя. Сикора болен. И ребята тихонько входят в спальню, без шума моют ноги, далее ни разу из-за полотенец не поссорились, и сразу бегут каждый к своей постели: осторожно, на цыпочках, хотя все босые. И слышится только: «Тише, Сикора спит». И так было не один, а целых три вечера подряд, потому что только на четвертый день Сикору вынесли вместе с кроватью на веранду. А еще через десять дней он уже принимал участие в войне; разумеется, не как солдат, а как знаменосец полевого госпиталя.
Вечерние концерты. — Старушка сосна. —
Вечером, когда ребята уже лежат в постелях, Грозовский берет скрипку, становится посреди спальни и играет им на сон грядущий. Нот он не захватил, но он знает много мелодий на память. Шумят ели на вершинах, Шум несется вдаль... Поют струны скрипки, и в спальне тишина: ребята слушают затаив дыхание. Только сосны за открытыми окнами переговариваются друг с другом, да иногда долетит из усадьбы звук колокола, созывая людей с поля на ужин. Многим мелодиям научились у Грозовского сосны, и теперь они подпевают ему, тихо, еле слышно, чтобы не мешать скрипке, — своими тоненькими зелеными иголками. Слева от дома растет кривая, горбатая старушка сосна. Сколько огорчений доставляют ей эти мальчишки! То влезут на нее и раскачиваются на ветвях, потому что это уже не сосна, а корабль; то превратят ее в поезд, то в лошадь, то в пожарную каланчу, то в крепость. Но сосна на них не сердится, она терпеливо ждет вечера, когда опять заиграет скрипка и убаюкает ее своей песней. У большинства ребят уже смыкаются веки, но вон у того глаза широко открыты, а этот оперся на подушку и так, полулежа, смотрит на играющего товарища. Каждый думает о своем, но, когда Грозовский хочет спрятать скрипку, все просят сыграть что-нибудь еще или повторить. В Варшаве Гешель Грозовский поздно ложится спать, не пьет молока и может делать все, что хочет, потому что он живет с сестрой, а сестра редко бывает дома — она ухаживает за больными и иногда даже ночевать не приходит. И в колонии Гешель хотел вести себя так же: поздно ложиться спать и не пить молока. Поэтому вначале ему здесь было немного не по себе. Но его все полюбили, и скоро он привык к новой жизни. Когда строили крепость, ребята давали ему копать дольше других. Маргулес подарил ему палку, которую нашел в березовой роще, и даже судьи, когда Гешель провинился, вынесли несправедливый приговор. Все хотят ходить с ним в паре, но Гешель не может ни с кем идти рядом, он всегда отстает: ищет желтые цветы с длинными стеблями. Как-то одна девочка подарила ему несколько веточек жасмина, а в другой раз крестьянин позволил нарвать букет гречихи и еще дал красный мак из своего огорода. Гречиху Гешель поставил в вазочку для цветов, а мак носил с собой, пока не опали лепестки. Есть у нас и трое певцов. Поют они тоже по вечерам, перед сном. Песня стелется, словно ласточка, над самой землей, словно пробует, сильны ли крылья, и вдруг смело взвивается под облака и еще долго-долго звенит в небе. А потом, усталая, возвращается на землю, к людям, и засыпает, стихая. — Красивая песня, — говорят сосны, — только почему мы не понимаем слов? — Потому что это древнееврейская песня, ее сложили сотни лет назад. Когда Фриденсон, Розенцвейг и Пресман поют втроем, можно подумать, что это поет один человек, — так сливаются их голоса. А ведь мальчики совсем не похожи друг на друга. Пресман серьезный и тихий. Он мало говорит, но охотно слушает. Он хочет знать, как устроен термометр, который висит на веранде и показывает, тепло ли сегодня и можно ли идти купаться. Пресман — судья. Он охотно прощает и всегда знает, кого надо простить. Прощать надо тех, кто еще мал и глуп, и тех, кто одинок и заброшен, но злых прощать нельзя. Хиль Розенцвейг совсем другой. Он всегда какой-то кислый, вечно чем-нибудь недоволен: то мошка в глаз попала, то комар его так больно укусил, что сил нет терпеть, то ему пить хочется, то жестко спать, то вода слишком холодная, то накидку ему обменили. И кто бы подумал, что этот нудный мальчишка, этот недотепа так поет! А у третьего нашего певца самый красивый голос, самые бедные родители и самое отважное сердце. Милый певец, ты несешь в жизнь свою горячую песню и чистую душу! И, если ты будешь извозчиком, как твой брат, ты не станешь морить голодом лошадь, не станешь стегать ее кнутом, заставляя работать через силу, хотя это будет и не твоя, а хозяйская лошадь... Слава о наших вечерних концертах разнеслась далеко по свету. Знают о них и в бараках, и в усадьбе, и в деревне. Поэтому под окнами всегда толпа слушателей. Здесь и Юзеф, и старый арендатор Абрам, и батраки, и девушки из деревни, и наша старушка сосна. — На сегодня довольно. Покойной ночи!.. — Покойной ночи!..
Как маленький Адамский хотел, чтобы его уважали,
Когда Гешель Грозовский провинился, суд вынес несправедливый приговор. А было это так. Маленький Адамский, как известно, старший по полотенцам; он следит, чтобы на каждой кровати полотенце висело точно посредине спинки, и перед обедом выносит на веранду три полотенца вытирать руки. Маленький Адамский заслужил, чтобы его уважали, ведь он «старший», а ребята его уважать не хотят: то один, то другой нарочно возьмет да и повесит криво свое полотенце, чтобы посердить малыша и задать ему лишнюю работу, или не смоет как следует песок с рук и грязными руками хватается за полотенце. — Никто меня не слушается! — жалуется маленький Адамский. Однажды, чтобы завоевать уважение ребят, он рассказал им очень интересную историю: будто бы он был с отцом у фельдшера и видел, как там намыливали господам подбородки и потом брили их бритвой. Старшие не поверили. — Это ты все сам придумал, — говорили они, — и вовсе ты не был у фельдшера. — Ей-богу, был. — Ну, может, у фельдшера и был, но не видел, как там намыливали мылом подбородки. — Нет, видел. — Но уж бритвой-то их не брили! Маленький Адамский уверял, что все, что он говорит, истинная правда, но ребята ни за что не хотели верить, смеялись над ним и продолжали не слушаться, да еще дразнили, его всей этой историей с фельдшером, мылом и бритвой. И вот однажды после обеда маленький Адамский увидел, как Гешель Грозовский подошел к колодцу и напился воды. А пить воду из колодца запрещено. — Вот погоди, я воспитателю скажу, что ты воду пил! Маленький Адамский думал, что Гешель испугается, станет его просить, чтобы он никому не говорил, и после этого всегда будет его уважать. А если его будет уважать Грозовский, то уж, конечно, и все ребята станут слушаться. Но Грозовский не только не стал его ни о чем просить, но еще принялся лупить полотняной шапкой, а старшего Адамского, который прибежал к брату на помощь, опрокинул на землю и ушиб ему больной палец. У старшего Адамского палец завязан тряпочкой, он давно у него болит и никогда уж, наверное, не заживет. Обо всем этом узнал прокурор и отдал Грозовского под суд, а суд вынес несправедливое решение: освободил виновного от наказания. — Как вы могли вынести такое пристрастное решение? — допытывался удивленный прокурор. — Потому что он наш товарищ, — ответили судьи. — Вы могли не согласиться его судить, и тогда для этого выбрали бы других судей. Наконец сам Грозовский потребовал, чтобы его дело пересмотрели и чтобы судили его те же самые судьи. — Господа судьи, — начал прокурор свою длинную речь, — перед вами трудная задача. По вашему решению должен быть наказан человек, который пользуется вашим расположением. Но, может быть, вы и второй раз захотите его оправдать? Помните, что несправедливый приговор подрывает доверие к суду. Подумайте, что скажут те, кому придется потом предстать перед нечестными судьями. Они скажут: «Мы им не верим. Выходит, если у человека есть скрипка и он хорошо играет, то ему можно делать то, чего нельзя другим?» Напоминаю вам, что Грозовский два дня назад отнял у одного из ребят мячик, вчера насыпал за шиворот Шатковскому песку, а сегодня обидел братьев Адамских. Не они, я его обвиняю и обвиняю по требованию самого Грозовского. Грозовскому неприятно, что вы пожертвовали для него своим добрым именем, неприятно, что его теперь все могут заподозрить в том, что он испугался наказания и сам попросил вас вынести оправдательный приговор. Вы сделали ошибку, и ваша задача исправить эту ошибку. Еще раз повторяю: заслуженное наказание будет обвиняемому приятнее, чем несправедливое оправдание. На этот раз приговор гласил: десять минут «карцера». В доказательство того, что он не сердится, Грозовский обещал вечером дольше обычного играть на скрипке, а так как он сам осознал свою вину, отсидел присужденные ему десять минут заключения и не обиделся, то это был самый лучший его концерт в колонии. Маленький Адамский примирился, наконец, с мыслью, что он слишком мал для того, чтобы его слушались старшие, и с той поры играет только с малышами, которым история о намыленных подбородках очень понравилась. Маленький Адамский понял, что лучше пользоваться уважением среди равных, чем забираться слишком высоко и терпеть насмешки.
Лучший в мире праздник и могущественная пряничная сила. —
Ах, какой это будет праздник! Такого праздника еще не было на свете! Он состоится через неделю — через шесть дней, теперь уж только через пять — через четыре — через три — уже послезавтра — завтра! Беговая дорожка аккуратно посыпана песком. По обе стороны дорожки голубые, красные и белые флаги. На веранде занавес из одеял, сделанный так искусно, что, если потянуть за шнурок, он раздвигается сам, как в настоящем театре. Только бы дождь не пошел, только бы занавес не украли, только бы за ночь не исчез лес вместе с беговой дорожкой, только бы не случилось ничего, что может помешать празднику! Но ничего не случилось. После первого завтрака — купание, после второго начался кросс. Один воспитатель подает сигнал старта, другой стоит у финиша и отмечает, кто пришел первым. Каждая четверка, прежде чем стартовать, потирает ладони, а некоторые даже плюют на руки, чтобы бежать быстрее. После кросса — бег с завязанными глазами, самый смешной. Каждому хочется прийти первым и страшно, что налетишь на дерево. Потом бег с препятствиями. И наконец — перетягивание веревки. Десять мальчиков тянут вправо, десять — влево. Тянут так сильно, что, когда побежденные не могут больше удержать веревку и внезапно отпускают ее, победители летят со всего размаха на землю. — Смотри, как я тянул! — И ребята показывают друг другу красные ладони со следами веревки. Четыре победителя в беге бегут еще раз: тот, кто прибежит первым, будет королем, второй — королевой, третий и четвертый — пажами. Жаль, что нельзя подсмотреть, как переодевается королевская чета: экономка завесила окно платком. Но уже известно, что даже у пажей будут короны, а король получит саблю и трубу господина Станислава и сможет трубить сколько захочет. Перед верандой стоит трон необычайной красоты, разукрашенный одеялами и флагами. — Ура! Король ведет под руку королеву; на королеве красная в белую крапинку юбка и белая блузка, которую пожертвовала прачка. Пажи несут шлейф королевы. Золотые короны сверкают на солнце. Триумфальный марш открывает конница; вот тут-то генералу Корцажу, героическому защитнику крепости, и пришлось быть лошадью. Воистину неисповедимы пути твои, господи! За конницей выступает пехота. Все салютуют королю; господин Герман выбивает барабанную дробь на ведре, оркестр играет вовсю — гремят крышки от кастрюль. Король в знак благодарности за оказанные ему почести трубит что есть сил, а потом приглашает всех на веранду — людей и лошадей. Туда же переносится трон, и господин Мечислав имеет честь выступить со своим представлением перед королевской четой и гостями. Занавес поднимается. В волшебном ящичке показываются и исчезают две карты; перерезанная ножом веревка срастается от прикосновения волшебной палочки; из волшебной рюмки исчезает красный шарик и оказывается за воротом у пажа. Но интереснее всего последний фокус. Королева собственноручно кладет в деревянный ящик два медных гроша, и господин Мечислав произносит заклинание: — Фокус, покус, черная сила, сменяй медь на серебро! Но черная сила слишком слаба. — Черная сила, возьми на помощь белую силу и сменяй медь на серебро! Но черная и белая силы слишком слабы. И зеленая, и красная, и синяя силы недостаточно могущественны, чтобы сделать такое чудо. Наконец кому-то приходит в голову мысль вызвать пряничную силу. — Фокус, покус, возьми на помощь пряничную силу... Два гроша исчезли, королева удивленно качает головой, а король от восторга засунул палец в нос. Но тут Вольберг, который умеет вырезать лодки из коры и потому считает себя умнее всех, вдруг закричал: — Я знаю, у господина Мечислава сорок грошей в рукаве спрятаны. Господин Мечислав засучил рукава и по требованию короля показал фокус еще раз. Как в настоящем театре, опустился занавес. Трон пришлось разобрать и опять превратить в суповые котлы. Они нужны к обеду. А после обеда состоялся концерт. Сначала был прочитан специальный выпуск газеты «Михалувка», потом Гешель играл на скрипке, потом пели, потом турчанка рассказывала сказки: одну страшную, а другую такую смешную, что сам король соизволил смеяться; и, наконец, Ойзер Плоцкий декламировал свои собственные стихи. Если в концерте и недоставало рояля, то только потому, что в колонии рояля нет, а если бы и был, все равно никто не умеет на нем играть. Но концерт и так получился блестящий. А лучше всего были сказки турчанки. Турчанка — это Арон Наймайстер. На голове у него полумесяц и в ушах полумесяцы, сидит он на ковре по-турецки, а рядом на столике горит свеча и отражается в зеркале, — можно подумать, что горят две свечи. После концерта ребята побежали в лес: отдохнуть и обсудить то, что уже видели и слышали, и то, что еще предстоит после ужина. Потому что после ужина будут «живые картины». Что такое «живые картины», никто не знает — значит, это что-нибудь очень интересное. Уже совсем стемнело. Все сидят на скамьях, как в театре. На первых скамейках — малыши, дальше — старшие; все, кто не поместился, — на столах. Занавес поднимается, но еще ничего нельзя разглядеть. Но вот сцену освещает красный бенгальский огонь. Картина первая. Сидит босая девочка и продает спички. А над ней — Мороз с длинной седой бородой, с мешком за плечами. Мороз вынимает из мешка горсть снега и сыплет на девочку. Девочка засыпает, а Мороз покрывает ее всю белым, пушистым снегом. Бедная девочка уже никогда больше не будет продавать спички. Вторая картина. На сцене, в полной темноте сидят люди разных ремесел: сапожник, кузнец, швея, садовник, столяр, торговка. Но вот на возвышении появляется День, весь в белом, с алыми крыльями и факелом в руках, — пора за работу! Столяр пилит, кузнец бьет молотком, швея шьет, садовник подрезает сухие ветви, а ребята поют Бьет кузнец по наковальне Во весь дух Как он бороду не спалит? Бух, бух, бух.
Отметки по поведению. — Собака прощает Гринбаума,
Раз в неделю воспитатель ставит отметки по поведению. В колонии это очень трудно. В школе учитель всегда знает, кто балуется, подсказывает или прогуливает уроки. А в колонии мальчик может набедокурить, а воспитатель об этом и не узнает. Поэтому лучше всего, когда каждый сам говорит, какую отметку заслужил, потому что ему-то уж хорошо известно все, что он успел натворить. — Фурткевич, сколько тебе поставить по поведению? — Четверку, господин воспитатель. — Почему четверку, а не пятерку? — допытывается воспитатель. — Потому что я пил воду из колодца и опоздал на обед. — Ну, господин воспитатель, четверку за такую ерунду? — кричат все, кто тоже пил воду из колодца и опаздывал к обеду. — Пятерку, господин воспитатель, пятерку! А Тырман улыбается своей доброй улыбкой и, когда все затихают, добавляет серьезно: — Он исправится, он теперь будет послушным! Фурткевич был на этой неделе дежурным портным и пришил много пуговиц. Правда, он пил воду из колодца, но все же он заслуживает пятерку... — Фридман Рубин, а тебе сколько поставить? Стало так тихо, как в среду за ужином, когда ели яичницу. Бедный Рубин, всю неделю он так хорошо себя вел, ни разу ни с кем не подрался, а это не так легко, и вдруг как раз сегодня кто-то крикнул ему: «Цыган». Рубин хотел дать обидчику по шее, но попал по носу, а ведь всем известно, что из носу сразу течет кровь. Бедный Рубин, как ему не повезло! — Может быть, тебе ничего не ставить, и если будешь следующую неделю себя хорошо вести, то сразу две пятерки получишь? — Не хочу! — говорит Рубин. Он считает, что лучше тут же четверку, чем когда-нибудь пятерку. — А зачем он кричал «цыган»? — вставляет Фурткевич, который по себе знает, как трудно не дать по шее за «цыгана», — Фурткевич рыжий и по этому поводу имел уже не одно столкновение с ребятами. В конце концов и Фридман получает пятерку, а Тырман опять заверяет: — Господин воспитатель, он больше драться не будет, он исправится! Не сразу решилась и судьба Эдельбаума, потому что он надоеда, во все вмешивается и любит распускать всякие страшные слухи: — Господин воспитатель, ребята Фрому ногу оторвали! — Неси сюда ногу, как-нибудь приклеим, — говорит опечаленный воспитатель. А потом оказывается, что никто Фрому ноги не отрывал, просто он упал и плачет. В другой раз Эдельбаум прибежал и сказал, что цыганка украла двух мальчиков, а на самом деле эта женщина была совсем не цыганка, а полька и ребята были деревенские, а вовсе не колонисты. Они шли все втроем по лугу, никто никого и не думал красть. К счастью, Эдельбаум всегда подбирает битые стекла на дорожке и перед верандой, и только благодаря ему ребята не калечат босые ноги, а то не видать бы ему пятерки по поведению! У каждого свои заслуги. Флегер хорошо придумывает игры, Клейман сидит за обедом между двумя сорванцами, и поэтому за столом нет драк. Эйно, когда было холодно, отдал некрасивому Аншелю свою накидку. Правда, за каждым числится и что-нибудь плохое, но ведь на свете нет людей без недостатков! И число пятерок по поведению все растет. Как было бы хорошо, если бы вся группа могла получить пятерки! Но едва ли это возможно. Гольдштерн сказал Эльвингу: — Чтоб ты ослеп! Пятерка Гольдштерна висела уже на волоске, хорошо, что Эльвинг простил его, и тем более охотно, что сам был виноват — подсказывал противнику Гольдштерна, когда тот играл в шашки. Зисбренеру нужно исправить отметку за прошлую неделю. Он получил четверку, потому что подставил одному мальчику ножку, мальчик упал и разбил колено. Но теперь все уже знают, что Зисбренер очень славный и тихий, что в Варшаве он вместе с матерью делает цветы для магазина, а по вечерам читает младшим братьям и сестренке книжки из бесплатной библиотеки, и не какие-нибудь сказки, а правдивые истории о Христофоре Колумбе, который открыл Америку, и Гутенберге, который изобрел печатную машину. Такой мальчик не мог подставить ножку. И в самом деле выясняется, что тот, кто разбил коленку, упал сам, потому что бежал и хотел разминуться с Зисбренером. — Почему же ты нам ничего не сказал? — удивляются ребята. — Ты мог бы получить пятерку, как и другие. — Вы еще меня тогда не знали и могли подумать, что я лгу, — так пусть уж лучше четверка. Вы видите теперь, как трудно в колонии справедливо поставить отметки. Остались только двое: Бромберг и брат Боруха Гринбаума, Мордка. Если и эти двое получат по пятерке, то у всей группы будет «отлично». Снова наступает глубокая тишина. — Гринбаум Мордка. Пусть брат за него скажет. Сколько ему поставить? — Господин воспитатель, — говорит брат Мордки, — пожалуйста, мне очень хотелось бы, чтобы у него была пятерка. У меня сердце разрывается, когда я вижу, какой он хулиган. Как поступить с Мордкой? Все его простили, даже воспитатель простил; но он бросал камнями в собаку... Как узнать, прощает ли его собака? Собака сидит в конуре на цепи. Если Мордка не побоится, подойдет к ней и даст ей мяса, а собака это мясо возьмет — значит, она не сердится. Идем. Видно, сегодня счастливый день — все нам удается! Собака в прекрасном настроении. Уже издали она виляет хвостом. Мясо съела, дважды облизнулась и, по глазам видно, настолько искренне простила нанесенную ей Мордкой обиду, что охотно съела бы не одну, а целых три таких порции. Итак, Мордка получил право на пятерку. Остается один Бромберг. — Скажи, Бромберг, что ты сделал плохого? — Цеплялся за телегу и садился верхом на лошадь. — Еще что? — Ходил по крыше веранды. — Еще? — Когда я нашел у себя в супе круглую перчинку, я ее облизал и бросил Рашеру в тарелку. — Еще? — Отнял накидку у Беды и налил на стол молока, чтобы и стол напился. — Что еще? Бромберг думает: — Отвернул в умывальной кран и обозвал Вайнштейна «сарделькой». — Еще? — Царапал по столу вилкой и не хотел хорошо стелить постель. И стегнул Шарачка помочами. И потерял носовой платок. — Еще что? — Не хотел есть хлеб, а только горбушку. И столкнул Фишбина в яму для картофеля. — А дрался сколько раз? — Не помню. — О сосне еще ничего не сказал. — Да, сосну сломал. Ребята печально слушают, а Бромбергу все нипочем, только улыбается. — Тырман, как тебе кажется: сколько же ему поставить? — Он будет послушным, — говорит Тырман. — Так сколько же ему поставить? — Не знаю, — говорит Тырман, хотя видно, что и ему и всей группе очень хочется поставить Бромбергу пятерку. Только никто не смеет об этом сказать. — Плохо дело, плохо... Чарнецкий, скажи ты, сколько Бромбергу поставишь по поведению? Чарнецкий — друг Хаима Бромберга, поэтому все взгляды обращаются к нему. — Ну скажи — сколько? — Пятерку, — говорит Чарнецкий, и две слезинки катятся у него по щекам. — Пятерку, господин воспитатель, пятерку! — кричат ребята. И Тырман добавляет: — Он исправится, он будет послушным!.. И в самом деле, Бромберг исправился. До самого вечера он ходил серьезный, не шалил, но видно было, что ему не по себе. Он ходил в своей пятерке по поведению, как в башмаках, которые жмут, так что воспитатель даже испугался, как бы Бромберг не заболел от чрезмерного послушания. А на другой день он подрался с Бедой и после обеда решительно заявил: — Господин воспитатель, я больше не хочу иметь пятерку! — Почему? — Потому что она мне надоела. Когда мы приехали в Варшаву, мать Бромберга на вокзале допытывалась: — Как вел себя мой Хаим? — Хорошо, — ответил воспитатель, — только он слишком тихий. Мать взглянула на воспитателя в изумлении, но, видя, что он смеется, и сама рассмеялась. — А я уж подумала, не заколдовал ли его там кто. И она была благодарна воспитателям, что они не сердятся на ее шалопая.
Поэт Ойзер. — Стихи о сапожнике,
Ойзер Плоцкий декламировал на концерте свои собственные стихи. Мальчикам казалось странным, что можно писать стихи не из книжки, а из головы. Собственно, Ойзер пишет не из головы, а то, что он видит и слышит. Например, стихотворение о сапожнике. У бедного сапожника долго не было работы, а значит, он ничего не зарабатывал. Ходил, искал работу — не мог найти. Наконец сапожник получил заказ, — как он обрадовался! Но, чтобы выполнить заказ, нужна кожа, кожа денег стоит, а где их возьмешь? Пошел сапожник к знакомым, просит денег одолжить. Одни не хотят, другие не могут, потому что сами бедные. Стал сапожник у заказчика задаток просить, а заказчик не дал. И не смог сапожник выполнить заказ, бедный, бедный сапожник. Ойзер знает этого сапожника: он в их доме живет. Ойзер помнит, как он ходил без дела, как получил работу, как хлопотал о деньгах, да так их и не достал. Ойзер все помнит, вот и написал об этом стихи... Другое стихотворение о кузнеце, который днем и ночью бьет молотом по железу, а молот поет ему песню о людском счастье. Как-то раз, когда мы шли на водяную мельницу, мы по дороге завернули в кузницу. Кузнец бил молотом по раскаленному железу, и ребята впервые увидели, как делаются подковы. В кузницу ходили все, но один только Ойзер написал потом стихотворение. Он один услыхал в грохоте железа мелодию — песню о людском счастье, потому что только он один был поэтом. А еще Ойзер написал стихотворение о лесе. В лесу человек становится здоровым и сильным; но не все могут жить в лесу, поэтому они такие бледные и грустные. О ком думал поэт, когда писал эти стихи? Наверное, об отце. Отец Ойзера делает скакалки, поводья, пояса и украшения для платьев. Когда он был здоров и много зарабатывал, его дочь, старшая сестра Ойзера, ходила в школу. Но теперь он все время кашляет, а поехать в лес, где бы он выздоровел, не может. Отец и мать часто вспоминают добрые старые времена, когда дочка ходила в школу. В школе была хорошая учительница, очень хорошая, и дети ее любили. Теперь отец болен, школу закрыли, учительница уехала далеко, в Америку, и там ее тоже, наверное, любят дети А как хотелось бы Ойзеру учиться! Ойзеру не нравятся шумные игры, зато он любит слушать интересные сказки и рассказы. Он знает, что воспитатель его любит, но никогда ничего у него не попросит: ни флажок, ни мячик, ни красивую вилку, ни горбушку. Отец Ойзера, он сам, его старшая сестра, мама — все они гордые и не любят, не хотят ни о чем просить. Когда маленькая сестричка Ойзера лежала в больнице, им всем очень хотелось навещать ее каждый день. Нельзя, к больным детям приходят только три раза в неделю. Если нельзя чаще, ничего не поделаешь. Видно, так должно быть, наверное, так лучше. Как-то Ойзер принес сестре в больницу кисточку винограда. Он принес виноград, а не леденцы, потому что леденцы ей нельзя было есть. Стоит Ойзер у кровати сестренки и молчит. — Скажи ей что-нибудь, поздоровайся с сестрой. А у Ойзера слезы ручьем... Приближался день возвращения в Варшаву, и ребята радовались, что снова увидят родителей, братьев и сестер и обо всем им расскажут: что делали в колонии, как купались, играли, защищали крепость. Ойзер написал свое последнее стихотворение: «Дети радуются, что возвращаются домой и сменят зеленый лес на сырые стены. Цветы улыбаются солнцу, но уже близка зима, а зимой цветы увядают». Охотнее всего Ойзер пишет о лете, о том, как светит солнце, цветут цветы. Зиму он не любит, потому что зима всегда печальна.
Сюрприз. — Последний закат и последняя сказка
Ребята просят, чтобы взрослые не ходили на опушку леса, потому что там готовится сюрприз. Они непрерывно что-то носят, укладывают, прилаживают и, когда все будет готово, позовут сами. Возни с сюрпризом, должно быть, много, потому что готов он будет только к вечеру. Юзефу пришлось дать им целых две метлы; за это они позволят ему первому посмотреть на сюрприз, только пусть он ничего не говорит воспитателям. Это последний день в колонии, и теперь уже только и разговоров, что о Варшаве. Топчо оставил дома голубей — не улетели ли? У Шидловского мама была больна, — выздоровела ли? Топчо хвалится, что умеет дым от папиросы пускать через нос и еще подбрасывать кусок хлеба и ловить его ртом. Плывак умеет класть ногу на голову и далеко плевать сквозь зубы. Фридман свистит в два пальца и выворачивает веки — очень страшно! Все сегодня последнее: и купание, и обед. На тарелках остается много каши, даже не все молоко выпито; где уж тут есть кашу, когда завтра — домой! Кукушка кукует на прощание с пяти часов утра. «Ку-ку, прощайте, дети, ку-ку, я не умею красиво петь, но прощаюсь с вами, как могу, — коротко и сердечно». Ребята уже переоделись в свою одежду, и трудно поверить, что Тырман, Фриденсон, Чарнецкий ходят в длиннополых пиджаках. На маленьком Соболе нарядный костюмчик, и в углах воротника по две золотых звездочки: так его нарядила в дорогу сестра-портниха. Ребята чистят башмаки, чтобы не стыдно было показаться на вокзале. Милые, добрые дети, вас тут было так много, и, хотя вы беспрестанно проказничали, никто из вас ни разу не сделал ничего по-настоящему плохого! Как вы трогательны в этой дружной суматохе, которую затеяли, чтобы устроить нам на прощание сюрприз! — Господин воспитатель, все! — Господин воспитатель, готово! Справа, на опушке леса, где мы каждый день прощались с заходящим солнцем, ребята построили нечто вроде большого гнезда из веток, камней и песка, выложили гнездо сосновой хвоей, устлали мхом и убрали цветами. — Аистово гнездо. — Не гнездо, а ложа, — говорит один мальчик, который бывал в театре, потому что его отец-токарь как-то получил там работу. Последний закат. Солнце уже утратило свои лучи, узкое облачко перерезало солнечный диск на две половины. — Последний закат, — говорят ребята. Завтра в это время они уже будут в Варшаве, а там не бывает заката. В сумерки на улицах появляется человек с длинной палкой и зажигает безобразные желтые фонари. Человек переходит с одной стороны улицы на другую, всегда бедно одетый, в черном, и лица его в темноте нельзя разглядеть. Это он превращает в городе день в ночь. А в Михалувке ясное солнце в пурпурных одеждах гасит день и зажигает ночь. Солнце садится все ниже и ниже, прячется за землю и постепенно исчезает: все меньше и меньше кусочек диска. — Все, — говорят одни. — Нет еще, — возражают другие. И вот уже светятся только маленькие искорки... В этот последний вечер родилась последняя колонистская сказка о последнем закате — странная сказка без конца...
— А может быть, не возвращаться в Варшаву? Может быть, стать парами, взять флажки и с песней отправиться в путь? — Куда? — К Солнцу. Долго придется идти, но разве это плохо? Спать будем в поле, а на жизнь зарабатывать, как сумеем. В одной деревне Гешель сыграет на скрипке — и нам дадут молока, в другой Ойзер расскажет стихотворение или Арон интересную сказку — и нам дадут хлеба. Где-нибудь споем хором или поможем в поле. Для хромого Вайнрауха мы сделаем тележку из досок и, когда он устанет, повезем его в тележке. — Мы будем идти долго-долго, будем идти, идти, идти... — А потом что? Но тут раздался звонок, сзывающий всех на последний ужин, и сказка осталась без конца... А утром мы уже были на пути в Варшаву. _______________________________________________________ Януш Корчак. Лето в Михалувке // Король Матиуш Первый: Пер. с польск. / Послесл. А.Шарова; Ил. Е.Медведева. — М.: Правда, 1989. — с.311-360.
В книге представлено художественное наследие польского писателя, педагога и общественного деятеля Януша Корчака, погибшего вместе со своими воспитанниками в газовой камере фашистского концлагеря. В свои повести-сказки о Матиуше Я.Корчак вложил раздумья о воспитании детей, о человеческом счастье. Книгу завершают избранные педагогические произведения. | |||