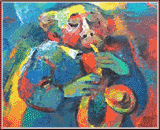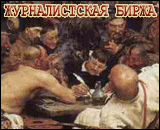|
 Мы
провели со Ждановым прекрасный июльский день в Ирпене — сначала беседуя I в доме
фотохудожника Юрия Косина, потом гуляя по лугам и перелескам В разговор
вмешивался гул и стук электрички, пенье пичуг, крики детей, ныряющих с невысокой
кручи Все это казалось очень «ждановским» — пейзажным и архетипичным, сердечным
и таинственным. Мы
провели со Ждановым прекрасный июльский день в Ирпене — сначала беседуя I в доме
фотохудожника Юрия Косина, потом гуляя по лугам и перелескам В разговор
вмешивался гул и стук электрички, пенье пичуг, крики детей, ныряющих с невысокой
кручи Все это казалось очень «ждановским» — пейзажным и архетипичным, сердечным
и таинственным.
— Немного удивительно, что итоговая книга русского поэта выходит в Киеве...
— У меня, как оказалось, здесь немало читателей Да и приятно было выпустить
книжку в одном из моих любимых городов. С Киевом, его литературной средой я
познакомился еще в 70-е годы — благодаря поэтам Алексею Парщикову, Александру
Чернову, Игорю Винову. Они были родом отсюда, а учились в Москве. Они-то и
дарили мне Киев, А еще — Игорь Лапинский, Дмитрий Бураго. Так что ваш город я
знаю благодаря друзьям Вообще должен подчеркнуть, не ради комплимента, что, в
отличие от Москвы, Киев мне кажется более уютным, В Москве все как-то разбрелись
по своим углам, поэтическим тусовкам. А в Киеве все, возможно, на мой
неискушенный взгляд, более-менее связано Если какое-то событие происходит,то
собирается весь литературный Киев - Верно?
— Вероятно. Однако и в Москве, при всей ее многоугольности и порой взаимной
враждебности литературных группировок, Ивана Жданова, кажется, всюду
воспринимают довольно друже любно. Случай уникальный.
— Ну нет: Скажем, я никоим об разом не касаюсь «угла» концептуалистов.
— А я своими ушами слышал, как известный концептуалист Лев Рубинштейн отзывался
о тебе очень тепло и, я бы сказал, даже нежно.
— В пространстве литературных поисков мы не пересекаемся. Просто мы с ним как-то
оказались на совместных выступлениях во Франции. Нас повезли автобусом в
Нормандию. Возвращались в Париж ночью, было скучно, многие дремали , А мы с
Рубинштейном вдруг стали распевать всякие советские песни. Ну, и спелись— Став
первым лауреатом премии Аполлона Григорьева, ты ее денежную часть потратил на
покупку дачи в Симеизе.
— Не дачи, а квартиры в пятиэтажке.
— И в Ирпене регулярно гостишь у фотохудожника Юрия Косина. Получается, Жданова
можно уже назвать украинским поэтом?
— А в Крыму меня считают крымским, даже в какой-то тамошний справочник включили.
Так что в Киеве я — киевский, а в Москве — московский. Хотя если б я пожил в
Киеве столько, сколько в Москве, может, и он бы мне опостылел.
— А дома, на Алтае, тебя воспринимают как известного поэта?
— Ну, слышали что-то. Я там даже две книги свои подарил — учителю школьному и
бывшему соседу, у которого снимал жилье.
— Может быть, дело в самих твоих стихах — отнюдь не «народных» У Есенина,
скажем, трудно представить такую строку: «И зеркало вспашут».
— Ладно, вопрос прямой — постараюсь так же ответить. Начинал я с того, что писал
для себя. В принципе, каждый поэт с этого начинает, а потом круг понимающих
расширяется. Вот и я писал, ориентируясь на свой вкус, свое отношение к слову, в
том числе и стихотворение «Портрет отца», откуда эта строчка. Печататься,
учитывая безнадежность застойных 70-х, я особо не надеялся. Но был все-таки
небольшойкруг читателей, в основном студенты МГУ и Литинститута. Мне важна была
их реакция. Слушали меня внимательно, с интересом, и мне не казалось, что эта
поэзия малодоступна. А впервые о ее «герметичности» заговорили, когда дело дошло
до публикаций. Я попал на совещание молодых литераторов, мне уже было за
тридцать. И один из мэтров на семинаре сказал, что мое нанизывание метафор —
эксперимент, который, дескать, напоминает культуризм. Когда мышц много, но такой
качок и штангу-то поднять не сможет.
— Надо же, ты запомнил эту чушь... А я — другое: как главная газета СССР
«Правда» громила твои стихи за «мелкотемье».
— Я в то время работал монтировщиком сцены в Театре имени Вахтангова. «Правда»
вывешивалась там на стенде. Почитал я статейку ту и охолонул: «Правда» ругает,
что же будет-то? А потом успокоился: меня же тут не знает никто как поэта, А вот
в издательстве «Современник», где у меня рукопись лежала, я, конечно, спросил
редактора: что ж теперь? А он: «Да видел я эту статью! Я даже знаю, что у тебя в
каком-то израильском журнале выходила подборка стихов! Ну и что?» В общем, книга
чудом все-таки вышла. Может, даже потому, что у меня биография была хорошая по
тем меркам: рабочий с Алтая, одиннадцатый сын в простой семье.
— Но понятнее-то «широким массам трудящихся» Жданов все равно не стал.
— Нет Но, мать мне рассказывала, я ведь и сам, когда учил в младших классах
«Терек воет, дик
и злобен», плакал Потому что никак смысл не доходил: о чем это? Чего он воет?
Кто злобен? И я должен это зачем-то механически зубрить! Так что, видишь, и
Лермонтов может быть кому-то непонятен.
— Мне попался новейший российский учебник словесности, и там Иван Жданов
рекомендован для внеклассного чтения в 10—11-х классах. Кто-то и над тобой
обрыдается, зубря «И зеркало вспашут».
— Вот-вот, меня мучил Лермонтов, а теперь я буду всех мучить! По поводу этого
зеркала вот еще что скажу. Тогда, в начале 80-х, я был уверен, что никто мою
книгу все равно не напечатает. И поэтому разговаривал с редактором смело, с
издевкой. Играл в дурака. Он говорил: «Ну как это — зеркало вспашут? Землю
пашут. Ну, небо — могу представить. А зеркало?!» А я ему: «Представьте, как
мужик с сохой взбирается на трюмо. И ну пахать, ну пахать! Это ж как здорово! А
вы придираетесь».
— О твоем четверостишии об умирающей птице, в которой плачет усталая пуля,
полгода из номера в номер полемизировала популярная тогда на весь Союз
«Литературная газета».
— Да, там любили разные дискуссии специально затевать. Чтоб дать какую-то
установку либо выволочку. Как надо писать, как не надо... Ну, в тот раз под руку
им я попался. Но были уже перестроечные времена.
— и, говоря по-нынешнему, ты получил отличный пиар?
— Да, в какой-то мере это сделало меня заметным для иностранцев. Меня сразу
стали приглашать за границу, печатать там: вышли книги в Дании, Франции, Японии,
в США Я попал в антологии ~ в Финляндии, Швеции, Голландии, Англии, все и не
упомню.
— И, исходя из опыта жизни, какое время, по-твоему, было лучшим для поэзии:
застой, перестройка или нынешнее?
— С точки зрения индивидуальной, конечно, мне все равно. А что касается
общекультурной ситуации, то, наверное, в каждом времени хватает своего негатива.
Сейчас вот свобода слова, печати, производства, а книг поэтических почему-то
выходит мало. И тиражи их — мизерные. Как и в тоталитарное время, литература
ушла, в сущности, в подполье. Когда-то я копировал стихи на пишущей машинке, на
ксероксах — выходило примерно столько же экземпляров, как нынешнего
«Избранного».
— Наше время по-разному влияет на людей. Кто-то вспыхнул — и замолчал, Кто-то
переключается на более коммерческие жанры. Кто-то эмигрировал, А ты продолжаешь
писать ровно и спокойно.
— Это не совсем так, на меня общественные события тоже влияют. Все-таки от 1991
года ожидалось чего-то большего. Обещала, наконец, наступить нормальная,
свободная жизнь Но не случилось В сущности, никакие реформы не были
осуществлены. И, конечно, некоторые люди оказались в растерянности. У них нет
твердых правил, по которым надо жить. Отсюда - нарастающее чувство тревоги
Сейчас почти у всех в квартирах — железные двери! Для меня это символ попытки
человека заслониться от преследующей его действительности. Тот же тоталитаризм,
но какого-то другого пошиба. В сущности, проблема индивидуальной свободы
остается для России и, думаю, для Украины ужасно жгучей.
— Вот уж не ожидал услышать в твоих речах некрасовские регистры! «Но гражданином
быть обязан»?
— Обязан, хотя я, например, себя ежесекундно и не чувствую гражданином Меня
всегда больше интере совал сам человек, его внутренний мир. Вот, скажем, стоит
ларек, а возле него — пьяные мужики. И в ста километрах над ними начинается
космос. С расстояния в миллион километров
Земля кажется крохотной звездочкой. И я себя чувствую пылинкой, но - космической
В таких категориях я стараюсь жить. И на историю так же смотреть. В дни
августовского путча 1991 года я гостил в Барнауле. К вечеру вышел в церковь,
смотрю — митинг протеста. Человек 500 активных. А на противоположной стороне
улицы — автобусная остановка, и народу там не меньше! И я подумал в тот миг, что
историю вершат, конечно, единицы. Остальные только терпят — голод, войну,
разруху. Кому что достанется.
— Давай вернемся к поэзии. Распространена такая точка зрения, что существует,
мол, столбовая поэтическая дорога, некий мейнстрим. А остальное —
концептуалисты, метаметафористы и прочие — это все девиации, отклонения,
нарушения канона. Как ты относишься к мнению, согласно которому ты —
представитель одного из «уродств»?
— Я думаю, что сегодня этот взгляд как раз должен быть пересмотрен. В момент
текучести, неупорядоченности времени «столбовая поэзия» не заработала. Если и
впрямь существует нечто основательное, то почему вдруг оно нуждается в защите?
Время «огромных», «столбовых» стилей сейчас неподходящее. Им обосноваться не на
чем.
— Есть две точки зрения на поэтические творения. Первая: нужно впускать туда
поменьше современности — не дай бог попадет в стихи линия электропередачи. Надо
писать о «серебряном аккорде», одиночестве или инцесте. И вторая: наоборот, надо
«воспевать» ЛЭП, нэп, реформы, алюминий....
— В молодости я немало размышлял над этими проблемами и пришел к выводу, что
предметы в поэтической речи начинают раскрываться в своей более глубинной сути.
Есть вещи, легко становящиеся символами. А есть — как бы это точнее сказать? —
слишком модерные. Они тяжело поддаются знаковости. Одно дело сказать «меч». И
другое, допустим, «АКМ». Автомат Калашникова тоже, конечно, может стать
символом, но, на мой взгляд, не столь глубоким. Он слишком связан с конкретным
историческим временем. Хотя, с другой стороны, извечные символы тоже
подвергаются какой-то пертурбации. Взять, скажем, тот же «меч». Достаточная
коммуникация между поэтом и читателем с помощью этого слова сегодня немыслима.
Огромной задачей художника во все времена было найти новую выразительность в
том, что связано с частной жизнью человека. У Ван Гота есть один такой
натюрмортик — башмаки. Они настолько символообразующие! Картина так пронзительна
и трагична по тону! То есть дело не в самом предмете, а в том, сумеешь ли ты
возвести его в могучий образ.
— Еще хочу спросить о пафосе в поэзии. Он чуть ли не насильно культивировался
советскими редакторами. Потом десятилетие его снижали, выстебывали,
мистифицировали, в частности, концептуалисты. А нужен ли поэзии пафос?
— Концептуалисты оппонировали именно советскому культурному канону, некоему
«Большому Совдепству», которое пыталось пролезть не только во все сферы и щели
бытия, но и в самое душу человека. Пафос же, на мой взгляд, такая же
неистребимая вещь, как частная жизнь. Человек всегда — между жизнью и смертью,
между свадьбой и крестинами. И любой рассказ об основных поворотах судьбы, любая
фотография этого момента и, естественно, стихотворение будут пафосны.
Беседовал Игорь КРУЧИК
Источник: "Столичные новости" (Киев) №28 26.07-01.08.2005 |

 Мы
провели со Ждановым прекрасный июльский день в Ирпене — сначала беседуя I в доме
фотохудожника Юрия Косина, потом гуляя по лугам и перелескам В разговор
вмешивался гул и стук электрички, пенье пичуг, крики детей, ныряющих с невысокой
кручи Все это казалось очень «ждановским» — пейзажным и архетипичным, сердечным
и таинственным.
Мы
провели со Ждановым прекрасный июльский день в Ирпене — сначала беседуя I в доме
фотохудожника Юрия Косина, потом гуляя по лугам и перелескам В разговор
вмешивался гул и стук электрички, пенье пичуг, крики детей, ныряющих с невысокой
кручи Все это казалось очень «ждановским» — пейзажным и архетипичным, сердечным
и таинственным.