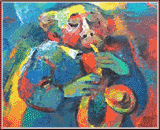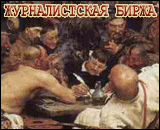|
НАМ ПИШУТ |
|||
|
Предлагаю вниманию любителей
поэзии перепечатку интервью с поэтом Иваном Ждановым, опубликованном на
православном украинском сайте под заголовком "Иван Жданов: «Наша
поэзия неотторжима от православного сознания»".
Кроме заглавия - статья не претерпела изменений. На странице источника, к
сожалению, не указана фамилия интервьюера. |
|||
|
Иван Жданов: |
|||
|
01.08.2004 Иван Жданов: «Наша поэзия неотторжима от православного сознания» Иван Жданов — один из самых ярких мастеров современной поэзии. Стихи поэта вошли в антологии и школьные хрестоматии, изданы во многих странах мира. Его творчество созвучно сегодняшнему времени, но в то же время находится в русле многовековой традиции. Недавно Жданов посетил Киев и провел в столице несколько поэтических вечеров. — Иван Федорович, сегодня Православная Церковь соприкасается с различными сферами жизни. Нельзя не заметить, что ваше творчество несет на себе печать православной традиции. Не так давно вышел четырехтомник религиозной поэзии. Читая его, убеждаешься, что творчество многих известных русских поэтов имеет православное звучание. Эта линия фактически никогда не прерывалась. Мы видим это даже на примере поэтов серебряного века — символистов, футуристов, акмеистов и т. д., а также многих из тех, кто творил в атеистические времена. Давайте для начала ответим на вопрос: современная поэзия и Православие — это совместимые понятия? — Если говорить о русской поэзии, она, можно сказать, неотторжима от православного сознания, поскольку эти два пласта прочно взаимосвязаны. Мало того, что она родилась из самого Православия, ее корни именно там. До того как произошла реформа стиха Тредиаковского и Ломоносова, русская поэзия была под влиянием так называемого Киево-Могилянского направления: Прокоповича, Симона Полоцкого и т. д. Ведь в то время поэзия в основном была духовного содержания. Культура — это некий неразрывный процесс, и, так или иначе, наша поэзия как часть культуры несет православный заряд через века, и отделить ее от Православия невозможно, как нельзя отделить от него историю наших стран. — А если говорить о ваших собственных истоках, каким образом вы восприняли эту традицию? — Это был непростой путь. Нужно учитывать время, в которое мне довелось родиться, и среду, в которой я рос. Писать я начал, как многие, — в юности. Но мои первые пробы пера скорее были симптомами взросления. Кто ж в этом возрасте не писал, не пел или не пытался играть на гитаре?! Чуть ли не каждый третий или каждый второй занимался у нас сочинительством. Время серьезного творчества пришло позже. Что касается Православия, Евангелие я прочитал впервые в двадцать три года. Хотелось раньше, но взять его было негде. Достал я его у своей двоюродной тетки. Выдано оно мне было под большим секретом. Но какие-то мотивы Священного Писания встречаются у меня даже в ранних стихах. Думаю, я впитал это с воздухом нашей культуры. Как-то за границей, когда только-только перестройка началась, кажется, в Финляндии, нас с эмоциональной непосредственностью спрашивали: "Откуда вы это можете знать, ведь у вас все было запрещено?!" Конечно, многое было запрещено или трудно доставаемо, но никто не отменял Достоевского, Толстого, Фета, Тютчева, вообще русскую классику, русских художников, композиторов. Нельзя было отменить архитектуру. Все это было либо на глазах, либо на слуху, либо в книгах. То есть все это находилось в воздухе, лучше, наверное, не скажешь. Воздух-то отменить было невозможно, потому что люди вымерли бы совсем. Любая идеология все равно должна на чем-то паразитировать или за счет чего-то существовать. Любой паразит живет на каком-то теле, пока оно живо. Умирает тело — паразит либо переходит на другое тело, либо сам гибнет. Поэтому даже в самые заидеологизированные годы православия в воздухе было достаточно. — Поэзия — творческая работа. Считается, что это не совсем безопасное дело. Есть теория, что человек, творя, присваивает себе функции демиурга. И на этой почве может взрасти гордыня. — Все зависит от характера человека, от его культуры, приверженности к тем или иным взглядам, каким образом он себя помещает в пространство данной культуры, данного общества и мира вообще. То есть кем поэт себя считает: источником или проводником. Если проводником — он ведет себя соответственно и свободен от заблуждений, о которых вы говорите. Если источником — поведение совсем другое, высокомерное и тщеславное. И это действительно опасно. — Поэтов можно разделить на два типа еще по одному признаку — любящих быть на виду, в центре внимания и согласных быть наедине с собой. Вы пришли в поэзию в такое время, когда так называемые поэты-эстрадники превосходили по популярности тех, кто не предлагал себя миру так активно. Вы не хотели быть похожим на них? Или они изначально не были вам близки? — Я прошел несколько стадий в своем развитии. Поначалу я интересовался такой поэзией, как интересуется всякий нормальный человек тем, что происходит вокруг. Но это было в глубокой юности, еще в школе. В конце 60-х годов очень сильно было распространено такое явление, как самиздат. Начиналось хождение рукописных книжек, текстов, перепечатанных на машинке. Закладывалось по пять-шесть листов тонкой бумаги, чтобы можно было под копирку пробить от первого листа до последнего. По этим изданиям я впервые познакомился с творчеством Ходасевича, например, и многих других писателей. Таким образом, я сразу вошел в контекст или русло так называемого серебряного века. Соответственно, это диктовало внутреннее поведение, ориентиры. Я был настроен на то, чтобы соответствовать этим образцам. В те годы главная сложность заключалась в том, где бы достать то, что ты хочешь прочитать. Достать Ходасевича, достать Пастернака, которого еще не успели издать, и т. д. — Иван Федорович, многие критики пишут, что вы работаете иррационально, как бы на подсознании. Подсознание рождает именно ту культуру… — Я в этом смысле никакой не первопроходец. Есть такое понятие — суггестивность. Она существовало всегда, извечно. Образцы суггестивности находят у Державина, Пушкина. Иногда у того же Пушкина полный текст представляет собой образец суггестии. Например, «Что в имени тебе моем?». Есть такие примеры у Фета, у Тютчева. То есть это все возникает не на пустом месте. Гаспаров утверждает, что в конце ХІХ-начале ХХ века появляется седьмая риторическая фигура — антиинфаза. Блок, например, пишет: «Лишь телеграфные звенели на черном небе провода». Провода как таковые Блока не интересуют. Этим образом он передает свое внутреннее состояние, настроение, хотя впрямую об этом никак не говорится. Этот прием, по Гаспарову, появляется именно в это время. Конечно, нечто подобное могло появляться и раньше. — Если проиллюстрировать, то, наверное, это строки Блока «на конце ботинки узкой дремлет тихая змея» или «гитара карболовая» у Мандельштама… — Совершенно верно. Словом, у меня это не что-то такое сверхъестественное, неизвестно откуда свалившееся. Это уже было фактором какого-то культурного состояния. — Библейские аллюзии вплетаются в ваши стихи тоже на уровне подсознания? Например, строки: «мы входим в мир, не прогибая воды»? — Это не совсем библейское, хотя, наверное, вы правы, подобные вещи извлекаются из памяти непроизвольно. Здесь же речь идет о различном восприятии времени. Например, с точки зрения мухи действия человека, который пытается ее убить, протекают очень медленно, хотя человек старается действовать как можно быстрее. Потому муху так нелегко поймать или прихлопнуть. Так вот я имел в виду, что мы можем быть в своем времени настолько быстротечными, что способны идти, как бы не прогибая воды. Конечно, мысль об аллюзии возникает невольно, и это обогащает образ дополнительным смыслом. — То есть, учитывая культурное пространство, в котором вы существуете, можно сказать, что вы можете обнаружить в своих стихах библейские реминисценции постфактум. — Бывает и так, но часто я прибегаю к этому намеренно. Пользуюсь скрытым цитированием, отсылками к первоисточнику. — А можем ли мы сказать, что сегодня существует православная поэзия? — Я могу так ответить на этот вопрос. Насколько стихи пастернаковского цикла из романа «Доктор Живаго» можно считать православной поэзией? В контексте культуры — да. Но с точки зрения повествования духовного? — Бродский, как известно, не был глубоко верующим человеком, но ежегодно писал стих о Рождестве. Он воспринимал Православие как глубокую традицию и считал, что свой творческий порыв и стихию образов нужно с этой традицией соотносить. Именно поэтому мы не можем назвать его истинно православным поэтом. В отличие от него Ахматова и Пастернак очень тонко чувствовали все, что касалось Церкви, ибо были людьми церковными. — Я уже говорил, что не был с детства вовлечен в церковную жизнь. В моей деревне на Алтае, где я родился, церкви не было. А крещен был бабками при рождении. Миропомазали меня значительно позже. Я хочу подчеркнуть, что у Ахматовой и Пастернака это было настолько в крови и сознании, что их поэтическое мышление подчинялось ему. Для меня же восприятие традиции связано с чтением литературы. В детстве меня захватывало совсем другое. Вы сами понимаете, что простые этические категории свойственны и детскому сознанию: справедливость, несправедливость, ложь, правда и т. д. Откуда он все это черпает? Из сказок, из детской литературы все это потихонечку формируется. Советская идеология ведь тоже занималась проблемами этики, перенося ее в контекст своих забот и проблем. У нас в школе была дружина им. Павлика Морозова. Все это мы принимали за чистую монету. Когда происходит взросление, когда «Собор Парижской Богоматери» становится для тебя уже детской книжкой, знакомишься с более серьезной литературой. — У Василия Розанова в одной из статей звучит мысль о том, что русская литература, по преимуществу, — это литература подростков, молодых людей. Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров, Андрей Болконский, Алеша Карамазов. Вы согласны с этим? — Розанов характерен своим парадоксальным умом. Он может что-то заявить. А потом хоть трава не расти. Я-то знаю его. Так вот, в русской литературе более чем достаточно мировоззренческих вопросов, связанных с этикой и религией. Кто мы есть? Откуда мы? Зачем? Что там после нас? и т. д. Впервые человек ставит вопросы в молодости. Когда я учился, Достоевского в школе не было. Я начал читать Достоевского с «Идиота», как детектив. Этот роман и вправду написан энергично, с напряженной сюжетной линией. Невозможно было оторваться. Я его читал, рассыпая крупу, потому что ел просто крупу, некогда было взяться и сварить кашу. Родные забранили потом меня. Я говорю: «Я ее ел, потому и рассыпал». «А че ж ты ее ел сырую-то?» — спрашивают. «Не мог оторваться от Достоевского», — отвечаю. Я прочитал его, не отрываясь, наверное, за сутки. — Проникновение христианских образов в современную поэзию — это мода? — Когда у меня в 1982-ом году выходила первая книжка, были большие проблемы. Я даже сам не понимаю, как могло получиться, что она у меня вышла. Редактор книги сказал, что все равно цензура эти ваши кресты и вашего Бога уберет. Но на удивление слово Бог убрали только в одном месте — там, где оно было написано с большой буквы. Эти и какие-то категории были мне необходимы для обобщения. Хотя с точки зрения просвещенного православного я брал, так сказать, «выше головы». Но это не от моды. Меня интересовали категории — греха, вины, их соотношение. Во второй книжке — «Неразменное небо» — я исследовал своими поэтическими возможностями категорию релятивизма. Меня интересовало, почему у современного человека нет таких четких противопоставлений, как это было в старину или есть у современных верующих: тут правда — тут ложь, тут свет — тут тьма, тут добро — тут зло. У современного человека эти понятия размыты, поэтому любви, например, противопоставляется не ненависть, а, скажем, ревность. Нечто эмоциональное, даже бытовое. — Вы не жалеете о том времени, когда поэты собирали стадионы? — О стадионах не жалею, а о том, что перестали платить, конечно, жалею. — А как же творческое бескорыстие? — Бескорыстие бескорыстием. Вдохновение не продается, но против продажи рукописи не возражал даже Пушкин. А само творчество бескорыстно. Это, как говорил тот же Пушкин, — священная жертва. — Насколько нам известно, вы сегодня живете, как отшельник. Уехали из Москвы, большого бурлящего города, в Крым, который по сравнению с Москвой пустыня. Поэт должен искать уединения? — В фигуральном смысле Крым — действительно пустыня по сравнению с Москвой. Но можно и в Москве быть пустынником. Я часто не работал и перебивался, чем Бог пошлет. Это вовсе не принцип моей жизни. Но я же не виноват, что часто только прихожу на работу, а организация, издательство или журнал, внезапно лопается. А сегодня я сдаю московскую квартиру, а живу в Симеизе, в Крыму. Там я квартиру купил. Мне же дали премию Аполлона Григорьева. Премии для меня — основная статья доходов. — Вы часто их получали? — За первую книжку я получил премию Горького от ЦК комсомола. Только денег там не полагалось. В 1987 году получил премию Андрея Белого. Мне дали большой листок, подписанный известными деятелями культуры Питера, в том числе Дмитрием Лихачевым. Кроме того — рубль в конверте, стакан водки и яблоко сверху. А вот премия Аполлона Григорьева от «Эксимбанка» имела приличное денежное выражение. — В чем тайна поэзии? — Я не могу сказать, что я нечто изобрел в поэзии, но для себя я сделал некоторые открытия. В искусстве поэзии очень взаимосвязаны форма и содержание. Когда мы изучаем эти понятия в школе, в вузе, все решается просто. Вот форма, вот содержание. Но когда непосредственно человек этим занимается, очень трудно отделить одно от другого, все, оказывается, не так просто. Важно, чтобы в произведении было сильное чувство. Это не упражнения, которые дают в литинституте. Дается тема, и ты должен написать некий текст, оснастив его различными тропами, то есть украсить, как елку. В сущности, любой человек, более-менее образованный, более-менее сообразительный, может написать стихотворение, исходя из своего житейского опыта. Но поэзией это будет не всегда, за исключением редких случаев. Вот в чем дело. Само по себе понятие поэзии — очень трудноопределимая категория. Ее могут почувствовать врожденные или воспитанные органы восприятия, а может быть, врожденные и в то же время воспитанные. То, что в обычной речи можно дискретным образом передать, разложить по полочкам, в поэзии абсолютно этому не поддается. Система саму себя не может обсуждать на том языке, на котором она обсуждает другие системы. Для того чтобы этот язык был возможен, нужен посторонний, другой язык, то есть посредством английского языка мы описываем русский язык. Но английский и русский язык существуют в той же самой системе. Нужен еще какой-то сверхъязык, метаязык. А выбора такого человеку не дано. Такой язык возможен только на уровне интуиции и только в искусстве. Как он осуществляется, до сих пор никем не определено и не описано. Есть еще более загадочное явление — сновидения, которые от человека никак не зависят. Есть научные, околонаучные объяснения. Есть описания сна как такового. Описание фаз сна. Но что такое сновидение как таковое? Почему человеку это видится, почему эти сновидения яркие, с какими-то странными сюжетными поворотами. С какими-то чудесными освещениями, красками и т. д.? Как это возникает, почему это непосредственно от человека никак не зависит? Это тоже косвенные признаки существования этого метаязыка. Как еще иначе эти косвенные проявления можно почувствовать, увидеть. Часто употребляемое понятие «виртуальность» немножко искажено. Оно пришло из мира физики, а в физику оно пришло из духовного, между прочим, словаря. В физике что имеется в виду? Вот частица. Ее непосредственно увидеть невозможно. Но судить о ней можно по следу, который она оставляет на негативе в ходе специальных лабораторных испытаний. Физик видит этот след и делает какие-то определенные выводы. Поэзия то же самое. Обыденный язык, который мы считаем привычным, а многие считают его единственно возможным, на самом деле не единственно возможный. Не исчерпывающий все и вся. Я об этом очень много размышлял, рассуждал, в том числе и в стихах. — Вы не имеете в виду психофизику языка? — Нет, я имею в виду восприятие реальности. Хотя и слово можно воспринимать по-разному. Потебня считал, что слово — это уже роман. Слово, как в колодец, это такой роман, которому ни конца ни края не видно. У меня есть приятель, фотохудожник. Вот, говорит, тебе хорошо, ты филологическое образование имеешь. Я ему объясняю значение слова «подноготная». Мол, когда людей пытали, загоняли гвозди под ногти, добиваясь от них какого-либо признания, оттуда и пошло это слово — подноготная правда. «Как хорошо, — говорит он, — все это знать-то». Ну, а само слово «ноготь»! Если начать интересоваться, куда оно заведет? Это бездна. Ты падаешь в нее и уже не знаешь, где приземлишься. Мы знаем только доступные пласты безмерного. Чтобы увидеть край языка, нужно выйти за пределы языка. А это невозможно. — Мы подходим к еще одному важному моменту — можно ли рассматривать поэзию, искание чувств по словесным следам, как богопознание? — Если заниматься искусством серьезно, рано или поздно придешь к тому, что связано с религией и богопознанием. Возьмем творчество какого-то поэта. Обычно мы как говорим? Вот эти стихи о любви, вот эти — о природе, эти — о творчестве. Но у поэта нет такого разделения. Это все об одном и том же. Это единый процесс познания. Можно назвать познанием, можно богопознанием. Это заглядывание в тот самый колодец. За одной бесконечностью идет другая, за ней — третья и т. д. И не этому ни конца ни края. — В таком случае, может ли поэт почувствовать, что ему удалось найти нечто, прийти к результату, оседлать метаязык, о котором вы говорили. Или он всегда обречен на неудачу и, в конце концов, говорит: «Останься пеной, Афродита, и слово в музыку вернись»? У вас были такие кризисы, когда вы чувствовали свою беспомощность? — Эта строчка говорит о том, что когда какая-то, мысль, чувство, ощущение схвачено на довербальном уровне, и идет вкрадчивое, внимательное, усердное стремление освоить его средствами языка. Это — ювелирная работа. Она происходит в сознании пишущего, и у одного это получается, у другого — нет. Потому что есть талантливые, и есть бесталанные поэты. Как сказал Лейбниц, музыка — радость души, которая вычисляет, сама того не зная. И счет идет неимоверно быстро. Никакая электроника за этим счетом не угонится. Однажды я работал на «Мосфильме» плотником, деньги зарабатывал. Был обеденный перерыв, и я наблюдал на съемочной площадке репетицию. Один из актеров — Збруев, а другой — менее известный. Режиссер дает установку, и актеры разыгрывают какую-то сцену. Збруев давно все понял, а у несчастного второго актера ничего не получается. Его и так и сяк поставят, лицо ему поворачивают, и руку поднимают, возятся с ним. Все уже начинают нервничать. Почему у одного получается, а у другого — нет? Я не думаю, что это объясняется только опытом того или другого. Мандельштам говорил: «До опыта приобрели черты». Существует некая сверхусваиваемость опыта. Такое усваивание опыта не каждому дано. — Если продолжить эту тему: вы никогда не укоряли святых Кирилла и Мефодия за то, что они только шесть гласных нам дали? Хватает ли ресурсов звуков языка? — От них это и не зависело. Это в языке существует, а они нашли этому буквенное выражение. Фонетика нашего языка мне очень нравится. Ее просто нужно знать, чувствовать. По умению владеть звуками, их игрой можно отличить настоящую поэзию от ненастоящей. Это очень сильная сторона творчества, которую учесть в момент писания абсолютно невозможно. Это почти бессознательный, иррациональный процесс. Нельзя плыть и одновременно рыбу ловить. Я, как было сказано, гоняюсь за смыслом: рой образов, из которых мне нужно взять необходимое, что-то отбросить. Это напоминает какой-то конвейер: мне подается, и я отбраковываю. Но я должен знать, что отбраковывать. — Но, в конце концов, рождается смысл, и многие люди воспринимают поэзию на уровне смысла. — В таком случае поэзию лучше не читать. Не только писать, но и воспринимать стихи дано не каждому. — Поэты, говорят, чувствуют глубину времени. Если сравнивать наше время с другими временами, что мы утратили, что приобрели? — Времена, как известно, не выбирают. Но порассуждать можно. Мир потерял некую стационарность. Раньше, лет двести назад, все было определеннее. Тут так, тут сяк, здесь земля, здесь небо и т. д. Сейчас многое относительно. Непонятно, где космос, куда что направляется. Мир стал менее определенным. Может быть, для религиозного человека он был определенным всегда. Мы жили когда-то в тоталитарном государстве. А современная жизнь, в другом смысле, еще тоталитарнее. Простому человеку деться уже некуда. Мир неустойчив. Есть такие фразеологизмы: «вопрос поставлен» и «вопрос снят». Но есть вопросы, которые никогда не снимаются, которые всегда преследуют человека. В их числе вопросы, связанные с верой, понятием греха, спасения, то есть религиозного содержания. — Сегодня есть разделение поэтов по школам, по эстетическим установкам. У вас, к примеру, особый круг общения в сегодняшнем поэтическом пространстве? — С возрастом все меньше и меньше связываешься со школами, компаниями. Это, по-моему, возрастное. — Ну, скажем так: в таком-то зале поэтический вечер. Вам предложено выступить в компании с самыми дорогими вам поэтами-современниками. Кого бы вы включили в такую компанию? — Мне сложно ответить. Бывают ситуации смешные, когда вступаешь с людьми явно графоманского толка. Слава Богу, публика это понимает. Конечно, мне было бы приятно выступить с Мандельштамом. Я бы почел за честь. Но это, к сожалению, невозможно. Источник |
|||
Для связи с публикатором
воспользуйтесь этой формой (все поля обязательны). При
Вашем желании Ваше мнение может быть опубликовано на этой странице.
|
|||