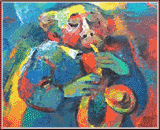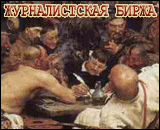|
НАМ ПИШУТ ЕВРЕИ РОССИИ |
|||
|
Для связи с публикатором воспользуйтесь
этой формой (все поля обязательны). При Вашем желании
Ваше мнение может быть опубликовано на этой странице. Или пишите на этот адрес: korczak_home@bk.ru
|
|||
|
Дела давно минувших дней Михаил Ромм |
|||
 До сорок третьего года, как известно, не было у нас, товарищи, антисемитизма. Как-то обходилось без него. Ну, то есть, вероятно, антисемиты были, но скрывали это, так как-то незаметно это было. А вот с сорок третьего года начались кое-какие явления. Сначала незаметные. Например, стали менять фамилии военным корреспондентам: Канторовича — на Кузнецова, Рабиновича — на Королева, а какого-нибудь Абрамовича — на Александрова. Вот, вроде этого. Потом вообще стали менять фамилии. И потом еще появились признаки. Появились ростки. Стал антисемитизм расти. Вот уже какие-то и официальные нотки стали проскальзывать. Ну вот. Примерно в это время послал я редактора в Алма-Ату на студию объединенную — там «Ленфильм» и «Мосфильм» объединились. Художественным руководителем студии был Эрмлер, его заместителями — Трауберг и Райзман. Ну, очевидно, не очень это тактично было сделано с точки зрения этого вопроса. А я был тогда художественным руководителем Главка. Послал я туда редактора. Он возвращается, показывает мне отчет. А в отчете — все про Пырьева: заместитель художественного руководителя Иван Александрович Пырьев распорядился, Иван Александрович отменил, Иван Александрович дал указание, товарищ Пырьев начал, товарищ Пырьев кончил, товарищ Пырьев сделал замечание и так далее, и все в том же роде. Я говорю: — Причем тут Пырьев? И когда это он стал заместителем художественного руководителя? Тот глядит мне в глаза спокойно так и говорит: — А разве вы не знаете, он назначен... Я говорю: — Официально? — Да пока как будто бы не официально. Только я приказа не видел, но это факт. Я говорю: — Ну, пока я не получу приказа, извольте считать художественным руководителем Эрмлера, а заместителями — Райзмана и Трауберга, и в этом стиле переделайте. Перепишите и покажите мне. Тот глядит на меня таким спокойным небесно-голубым взглядом и говорит: — Это ваш приказ, Михаил Ильич? Я говорю: — Да, приказ. — Хорошо, переделаю. Назавтра вызываю я его: Переделали отчет? — Нет, не успел. Работаю, — говорит. И опять глядит на меня таким каким-то загадочным небесным взглядом. Ну ладно, даю вам срок последний до завтра. Назавтра прихожу, вызываю его: — Где отчет? Он говорит: — А вы почту сегодняшнюю, Михаил Ильич, читали? И показывает мне приказ: назначить художественным руководителем Алма-Атинской объединенной студии Пырьева. А заодно в том же приказе мне письмишко от Ивана Григорьевича Большакова, где он сообщает мне, что вот, значит, вы, Михаил Ильич, много раз просили освободить, тяготились вы руководящей работой... Так вот, мы решили вас освободить, вернуть на творческую работу и предлагаем вам вместе с Ивановским делать оперу «Садко», используя остатки костюмов и декораций от «Ивана Грозного». Ну, «Садко» я, естественно, ставить не стал, а дела сдал. К тому времени ростки уже сильно взошли — садовник у нас, как известно, был образцовый,— так что все, что росло, — вырастало. Я поехал в Москву объясняться с Иваном Григорьевичем, а перед этим еще написал громадное письмо Сталину, жаловался на эти обстоятельства, говорил, что вот, можно подумать, что у нас в стране имеются явления антисемитизма. Дорогой Иосиф Виссарионович, обратите на это внимание и прочее, дорогой Иосиф Виссарионович, помогите... Приехал я в Москву, а в Москве уже застал совсем другую обстановку. Большаков разговаривает со мной уже более чем строго. Ну, тут пришлось мне выбирать тему для работы, неважно, а главное, предложено мне работать в Ташкенте, а не в Москве, — кончить картину только разрешено было в Москве. И узнаю я, что в Москве организуется «Русфильм», — сообщил мне это один директор группы: — Михаил Ильич, у нас тут организуется «Русфильм». На «Мосфильме» будут работать только русские режиссеры. Иду я опять к Большакову. Говорю: — Кто будет работать на «Мосфильме»? Он мне говорит: — Ну что ж, будут работать товарищи Васильевы, Александров, Иван Александрович Пырьев, Пудовкин, ну-те-с, Бабочкин, Довженко, — ну еще там кто-то, их перечисляет. Я говорю: — А по какому вы признаку отбираете на «Мосфильм» людей? Интересно знать. Он говорит: — Х-м, вот по какому. Вот судите сами, по какому признаку. Я пошел к Александрову, в Центральный Комитет партии. Георгий Федорович Александров был тогда завотделом агитации и пропаганды. И говорю ему: — Вот я посылал письмо. Он говорит: — А вот оно у меня лежит. Письмо все исчеркано синим карандашом, вопросительные и восклицательные знаки поставлены, и внизу резолюция: «РАЗЪЯСНИТЬ». Ну, стал мне Александров разъяснять. Я взбесился, встал. Александров был человек вежливый, тоже встал. Я сел. Он сел. Я встал. Он встал. Я говорю: — Вы меня извините, Георгий Федорович, я не могу сидеть, я нервный человек. А вы можете ведь сидеть. Он говорит: — Нет, я не могу сидеть, когда гость стоит. Ну, так вот полтора часа мы и простояли друг против друга. Я кричу, а он мне очень спокойно разъясняет. Что он мне разъяснял — уж не помню. Ну, во всяком случае, обещал, что вернет на «Мосфильм» меня, Эйзенштейна, еще там кое-кого. С этим уехал я в Ташкент. Ну, не буду уж рассказывать остальных историй — как меня Юсупов в Москву отправлял, очень интересный разговор с Юсуповым, разные другие дела. Через год приехал я в Москву уже с полкартиной «Человек 217», а тут это уже все цветет пышным цветом таким, и, действительно, есть проект делать на студии «Мосфильм» — «Русфильм». И в это время собирается актив. Актив собрался, председательствовал Большаков, кто-то сделал доклад, уж не помню. Центральным было выступление такого Астахова, имя-отчество я не помню. Хромой он был, уродливый, злой и ужасающий черносотенец. Был он директором сценарной студии. Вот тут вышел он, хромая, на трибуну и произнес великое выступление. — Есть-де, мол, украинская кинематография, есть грузинская, есть армянская, есть казахская. А русской до сих пор не было. Только отдельные явления были. И теперь нужно создавать русскую кинематографию. И в русской будут работать русские кинорежиссеры. Вот, например, Сергей Апполинарьевич Герасимов. Это чисто русский режиссер. Не знал бедный Астахов, что у Герасимова-то мама еврейка. Шкловский у нас считался евреем, потому что отец у него был раввином, а мать поповна, а Герасимов русский, потому что Апполинарьевич. А что мама — еврейка, это как-то скрывалось. — Вот Сергей Апполинарьевич Герасимов. Посмотрите, как актеры работают, как все это по-русски. Или, например, братья Васильевы, Пудовкин (и так далее, и так далее). Это русские режиссеры, и от них Русью пахнет, — говорит Астахов, — Русью пахнет. И мы должны собрать эти русские силы и создать русскую кинематографию. Вслед за ним выступил Анатолий Головня. Тот тоже оторвал речугу, так сказать, — главным образом на меня кидался. Вот есть, мол, режиссеры и операторы, которые делают русские картины, но они не русские. Вот ведь и березка может быть русская, а может быть не русской, — скажем, немецкой. И человек должен обладать русской душой, чтобы отличить русскую березку от немецкой. И этой души у Ромма и Волчека нету. Правда, в «Ленине в Октябре» им удалось как-то подделаться под русский дух, а остальные картины у них, так сказать, французским духом пахнут. Он «жидовским» не сказал, сказал «французским». А я сижу, и у меня прямо от злости зубы скрипят. Правда, после Головни выступил Игорь Савченко — прекрасный парень, правда, заикается, белобрысый такой был, чудесный человек. И стал он говорить по поводу национального искусства и, в частности, отбрил Головню так: — К-о-о-гда я,— сказал он, — э... сде-е-лал пе-ервую картину «Га-армонь», пришел один человек и ска-азал мне: «Зачем ты возишься со своим этим де-дерьмом? С березками и прочей чепухой? Нужно подражать немецким экспрессионистам». Этот человек был Го-Го-Головня,— сказал Савченко под общий хохот. Ну, конечно, ему сейчас же кто-то ответил, Савченке. Так все это шло, нарастая, вокруг режиссеров, которые русским духом пахнут. Наконец, дали слово мне. Я вышел и сказал: — Ну что ж, раз организуется такая русская кинематография, в которой должны работать русские режиссеры, которые русским духом пахнут, мне, конечно, нужно искать где-нибудь место. Вот я и спрашиваю себя: а где же будут работать автор «Броненосца «Потемкин», режиссеры, которые поставили «Члена правительства» и «Депутата Балтики», — Зархи и Хейфиц, режиссер «Последней ночи» Райзман, люди, которые поставили «Великого гражданина», Козинцев и Трауберг, которые сделали трилогию о Максиме, Луков, который поставил «Большую жизнь»? Где же мы все будем работать? Очевидно, мы будем работать в советской кинематографии. Я с радостью буду работать с этими товарищами. Не знаю, каким духом от них пахнет, я их не нюхал. А вот товарищ Астахов нюхал и утверждает, что от Бабочкина, и от братьев Васильевых, и от Пырьева, и от Герасимова пахнет, а от нас не пахнет. Ну, что ж, мы, так сказать, непахнущие, будем продолжать делать советскую кинематографию. А вы, пахнущие, делайте русскую кинематографию. Вы знаете, когда я говорил, в зале было молчание мертвое, а когда кончил,— раздался такой рев восторгов, такая овация, я уж и не упомню такого. Сошел я с трибуны — сидят все перепуганные. А вечером позвонил мне Луков и говорит: — Миша, мы все тебе жмем руку, все-все тебя обнимаем. Назавтра на актив уже понасыпало все ЦК. Стали давать какой-то осторожный задний ход. Не очень, правда, крутой, но все-таки задний ход. И окончательное смягчение в дело внес Герасимов. Он произнес обтекаемую, мягкую речь, что, мол-де, товарищи, Астахов, разумеется, имел в виду не национальную принадлежность, а национальный характер искусства. И, так сказать, национальный характер искусства, ну, есть... Он имеет право на существование. И я понимаю волнение Михаила Ильича, понятное волнение, ну, тут вопрос гораздо сложнее, гораздо глубже и сложнее тут вопрос — национального характера, — чем вопрос национального искусства. И так далее и в том же духе. Закончился актив. Мне говорят: «Ну, теперь тебя, Миша, с кашей съедят!» Дня через три мне звонок. Звонит Григорий Васильевич Александров, не Григорий Федорович, а Григорий Васильевич, и говорит: «Михаил Ильич, я вас поздравляю. Вам присвоена персональная ставка». Я говорю: «Кем и как?» — «А вот мы были с Иван Григорьевичем в ЦК, докладывали товарищу Маленкову список режиссеров, которым присваивается персональная ставка, это, значит, Эйзенштейн, Пудовкин, Чиаурели и еще несколько фамилий. А дальше Маленков говорит: «А где же Ромм? Имейте в виду, товарищи, что он не только хороший режиссер, но еще и очень умный человек». А Иван Григорьевич говорит: «Да мы его хотели во вторую очередь». Тут Маленков не выдержал и резко так: «Нет. В первую надо». И получил я неожиданно за это выступление персональную ставку. Вот как это вдруг обернулось. Но от этого с этим вопросом легче не стало. |
|||
|
Получено от
serg
Опубликовано 15.08.2007 Ответить |
|||