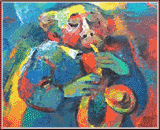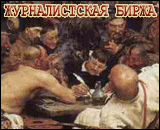|
эссе
Георгий Польский
Это Егор прислал сегодня. Но поздно, 22.13... Пойду-ка я
спать, а вы наслаждайтесь...
М.П. 11.07.2005 | |||||||
|
Последнее лето Рональда Рейгана Другие
произведения Георгия Польского: Моя любимая буся Георг Вильгельм Фридрих Гегель Я очень, очень сильно люблю свою семью. У меня жена и два сына. Еще есть родные и близкие. Я их всех очень люблю. Эта любовь успокаивает меня и греет, когда я трясусь от страха и усталости, оказавшись в час пик в метро у края платформы; когда вижу в автобусе приближающегося контролера; когда не успеваю пообедать и поздно ухожу с работы; когда чувствую с тоской, что наставшие выходные не принесли ожидаемого облегчения; когда вспоминаю, что забыл поздравить с днем рождения друга; когда в присутствии красивой женщины говорю некрасивую глупость. Но кроме жены и детей я люблю Гегеля. Я даже не скажу, что люблю его кроме них. Я не хочу сравнивать. Так же здесь не может быть никаких степеней любви. Просто в определенные моменты сознания я люблю жену и детей. А в другие моменты сознания – Гегеля. Значит ли это, что когда я люблю Гегеля – я не люблю жену и детей? Думаю, что нет. Просто это момент сознания такой, что в нем присутствует только Гегель, и я его люблю, а жены и детей в этом моменте нет. Но если их в этом моменте нет – из этого нельзя сделать вывод о том, что я их не люблю, потому что именно в этот момент сознания о них нельзя сделать вообще никакого вывода - потому что в этом моменте их нет. Есть только Гегель. Зато когда появятся они и не будет его – я буду любить только их. Я могу длить бесконечно свое сознание любви и при этом находить его разнообразным. Сначала думать о жене и детях, а потом о Гегеле. Подумав немного о Гегеле – опять начать думать о жене и детях и своей любви к ним. Гегель, моя жена и мои дети – возможно, они не подозревают о существовании друг друга. Но я их люблю – только в разные моменты сознания. Гегелю я тоже нравлюсь. Бывало, он встанет передо мной, ушастик пушистый, склонит голову на бок к левому плечу, будто с чем согласиться хочет, немного сузит веки глаз, блестящих, готовых вот-то заслезиться, почешет лапкой серое пятнышко у пупка, всхлипнет, будто от радости, подойдет и уткнется розовым носиком в колено, обхватит его и так и застынет в этой позе. Я нежно почешу его между ушей, затем подниму, прижму к груди… И скажу доброе слово, какое-нибудь… ……………………………………………………………………………………………….. Меня давно мучает вопрос: какое из восприятий, переживаемых моим сознанием в повседневной жизни, имеет значение, а какое нет. Насколько важно для спасения души, или интеллектуального развития, созерцание, например, лестничной площадки своего подъезда, когда идешь или возвращаешься с работы. Лиц случайных попутчиков в маршрутке. Если есть какие-то моменты моего сознания, когда я переживаю что-нибудь важное – узнаю что-нибудь новое, учусь чему-нибудь, восхищаюсь, что-то переживаю – значит ли это что все остальные моменты можно назвать промежуточными? И зависит ли важность воспринимаемого предмета – от длительности его восприятия? Что и как является не важными для сознания? Состоит ли моя осмысленная жизнь из некоторых точек важности, соединенных между собой мостами, и смысл этих мостов только в том и есть, чтобы их побыстрее пройти? И когда я иду по таким мостам – может быть, я просто впустую трачу время? Окунаюсь в пропасть бессмысленности? Может быть, в этот момент природа мстит моей душе и отнимает у нее время жизни – то есть я превращаюсь в некое воспринимающее окружающий мир существо, но воспринимающее впустую – тупо, механически, из физической необходимости. И если бы время было чем-то вещественным, и я из этого времени своей жизни взял да вырезал эти промежуточные моменты полной пассивности души – то тогда я бы ровным счетом ничего не потерял? Попробуйте провести эксперимент и мысленно вырезать из своей жизни все ненужное. Сколько времени у вас останется? Год? Месяц? День? Сколько бы не осталось – будет мучительно мало. Да и стоит ли задумываться? Вдруг начнешь шевелить мозгами – а там – даже и не мост над пропастью – а бесконечная китайская стена: идешь по ней ниоткуда в никуда, и остановиться не можешь… Страшно. И тут мне пришел на помощь Гегель. Я с ним познакомился в метро, на трезвую голову – тогда еще не было привычки хлебать пиво в вагоне. Абсолютный дух и его развитие. Что это такое? Это надежда на единство. Обещание спасения. Вера в высшую осмысленность. Или попросту - герменевтический круг. То есть – если читаешь в книге какое-то предложение, и совершенно не понимаешь его смысла – но потом, прочитав страницу целиком, вдруг понимаешь, что имелось в виду – то абсолютный дух этот как раз и есть такое понимание: тысячу, миллион раз в поле твоего зрения попадет лестничная площадка твоего дома, и ты не будешь понимать – для какой такой корысти это нужно. Зато потом – бац – и вдруг осенит, лет через семьдесят, и что это за прозрение будет – пока неизвестно, никому неизвестно, но оно все равно будет, ему некуда деться, его не может не быть. Эта необратимость понимания – вот он дух то и есть абсолютный. Если в него не веришь – развалишься на части как песочный человек, распадешься на миллиард восприятий ничем не связанных, будешь жертва скуки. А он есть – и ты цел. Но это еще ладно когда юзаешь Гегеля в целях личного спасения, собственного абсолютного единства – выстраиваешь, так сказать, жизнь сознания, состоящую только из точек – и никаких тебе мостов. Зато какие мурашки начинают бегать по спине когда этот самый Гегель всю историю человечества склеивает воедино, выворачивает на изнанку понимания время жизни всего мира – мол смотрите, бестолочи, тут же все связано… Чем дольше я читаю философию истории Гегеля – тем больше прихожу к выводу (странно, да? - приходить к выводу больше или меньше? - грамотнее «подходить ближе» - …) что это наркотическое чтиво. Как марихуана. Ты оказываешься внутри понимания всего человечества – и не хочешь из этого нутра вылезать. Уж больно красиво. А каким языком написано! Все только и знают упрекать Гегеля в отвратительном умении писать непонятно. Жонглировать понятиями собственного приготовления. Рушить мозг. Нет! Философию истории писал настоящий поэт! Ее рисовал вдохновенный художник! Я бы даже сказал – рисковый адепт перформативного искусства. Чего стоит хотя бы эта фраза: «Дух, уничтожая телесную оболочку своего существования, не только переходит в другую телесную оболочку и не только в обновленном виде воскресает из пепла, в который обратилась его прежняя телесная форма, но он возникает из этого пепла, возвышаясь и преображаясь при этом как более чистый дух». Для художественного сказа в этой фразе есть все: пренебрежение соображениями практического характера (никто не может знать во что превращается дух, если он сгорел до тла), низкий поклон фантастике индусов (если не понимаешь почему лестничная площадка твоего дома с такой настойчивостью рушит твой мозг – не боись, непонимание этого перейдет в мозг твоего сына как другой телесной оболочки…) и ее оригинальное жизнеутверждающее развитие, как музыкальная вариация – перерождение как прогресс (сначала дух был так себе – а потом более чистый, то есть сначала непонимание – а потом понимание…. и я слышу радостный голос труб). А эта фраза: «То, что я предварительно сказал и еще скажу, следует принимать и по отношению к нашей науке не за предпосылку, а за обзор целого, за результат того исследования, которым мы займемся – за такой результат, который известен мне, потому что я уже знаю целое». Это мог сказать только художник рискующий – уверенный в том, что его замысел «прокатит». Ведь в переводе на более простой язык данная фраза звучала бы примерно так: «Если вам кажется, что данная книга представляет собой некое научное исследование, цель которого изучить некие природные феномены и попытаться дать объяснение их поведению – вы глубоко заблуждаетесь: я знаю лучше всех про все на свете и больше ничего исследовать не собираюсь – вам нужно только внимательно слушать, получать удовольствие, свободно откинувшись в креслах, и постепенно приходить к осознанию того, как я прав». Возможно, я с иронией все это пересказываю, но мое отношение к данной книге совершенно серьезно – я вижу в ней в первую очередь художественное произведение, в котором отчаянная нелепость высказываний продиктована не идиотизмом автора – а его смелостью как художника, готового взять каждое слово на свою личную ответственность – а не хвататься за какую-нибудь научную методологию как спасение от провала. Чтобы писать как Гегель, в общем, нужно было быть отчаянным смельчаком. Тем паче, что важность поставленной цели – единство исторического процесса - тире – сознания человечества – к сожалению не настолько мелкая вещь, над которой стоит потешаться. Я в большей степени склонен иронизировать над русскими гегельянцами, например, над Аксаковым, поскольку, как мне кажется, непонимание в Гегеле его художественной натуры превратило их высказывания в обычную пародию: «Истинное царство бесконечного духа есть область искусства, Религии и Философии. Только там освобождается человек от случайности.. (Эту истину примем мы за доказанную; подробное ее развитие будет в другом месте)». Те же вопли «верьте мне, я прав» - но выхваченные из уст другого актера. Можно набрать в грудь воздуха и громко крикнуть: «никакого абсолютного духа нет, это полная чушь» - если бы дело было только в «быть» или «не быть». Все дело в единстве, которого, кажется, нет – или оно еще не случилось – и без которого не свершается в твоей жизни то, что называется смыслом или пониманием. Претензией к Гегелю, скорее, можно выставить то, что он, по сути, призывает расслабиться - поверить в то, что мосты соединяют берега, и выдает за свершившийся факт то, за что еще нужно побороться - точнее – за это нужно бороться постоянно, сражаться со случайностью как со скукой, прыгать с мостов, не разбиваясь о камни. Попробуем же сразиться за единство человеческого сознания. Вкратце проблема формулируется следующим образом: что позволяет человеку осознавать себя здесь и сейчас именно тем, кем он был вчера и в совершенно другом месте. Отгадки пока нету. Вся надежда на нейрофизиологов. Вариантов было предложено великое множество. Вот некоторые из них:
Ценность вопроса о единстве сознания – другое выражение вопроса о ценности воспринимаемых феноменов поступающих из внешней среды в наш мозг. Важность ответа на вопрос имеет семантическое и этическое значение. Если сознание человека – не более чем программа, определенным образом реагирующая на сигналы, поступающие из внешней среды, то на самом деле никакого субъекта сознания не существует – по сути, мы утверждаем, что существует только набор частиц, атомов, упорядоченных сигналов. И все. Другое дело – это противоречит данным субъективного опыта. Человек не хочет быть ни сгустком атомов, ни волной. Но попытки отстоять свое право на существование, и при этом не выродится в сгусток атомов, пока не имеют достаточно доказательного научного дискурса. Почему бытует мнение, что перед смертью перед взором человека проходит вся его жизнь? Почему люди говорят, что после смерти душа человека посещает места, где он жил? Я сомневаюсь, что это действительно так. Думаю, множество людей принимают смерть – сознательно или нет – и при этом ничего перед их взором не проносится. Но важна сама идея единства. Кажется весьма соблазнительным вдруг попасть в точку абсолютного единства с самим собой – когда вся жизнь оказывается свернутой в нечто единое целое, собранной, действительной и не случайной. Собранность в точке единства, полной – так сказать – собойности – убивает сразу двух зайцев: во-первых, опровергает идею о том, что мы состоим из последовательности представлений – в точке единства все представления даны одновременно; во-вторых, позволяет оценить свою жизнь во времени как осмысленное и точное произведение, имевшее некий общий замысел, как будто она удалась, как будто в ней не было ничего случайного – ведь в точке единства ничего случайного быть не может – никаких мостов и пропастей, одна сплошная кульминация. Прожив достаточно беспорядочную жизнь, особенно ничего не добившись, испортив отношения с родственниками, или устав от постоянной необходимости скрывать, что считаешь всех своих соседей идиотами, или от необходимости лицемерить самому себе, что талантливый и решительный – в общем, встав лицом к лицу с жутким подозрением, что жизнь прошла бестолково, бессмысленно, бесцельно и бесследно – я не буду завершать эту последовательность деепричастных оборотов грамотно. Добавьте к ним противную мысль об атомах – единственное, о чем можно говорить доказательно и без лицемерия - и вот вы попадаете в полное небытие еще до того момента, как отбрасываете копыта. Но если втиснуться в эту точку единства – ударить кулаком по столу и крикнуть «Я был!!!» - уже это само по себе дает облегчение и жалкое ощущение свой осмысленности. Жалкое потому что ложное. Мы потому и заставляем себя верить в то, что перед смертью перед взором человека проходит вся его жизнь и так далее – что он попадает в точку абсолютной осмысленности и единства – поскольку не уверены, что жизнь этого человека имела какое-либо значение и смысл. Наша вера – если хотите – дань уважения, жест хорошего тона. Ну не уверены и все тут. Но мы не уверены в гораздо большем: в том, что у этого человека есть и было некое единое сознание, хотя именно в этом единстве заключена, как нам кажется, вся его суть и ценность. Предположим, что человеческий мозг воспринимает окружающую действительность в виде ряда дискретных картин, кадров. Не важно, что процесс восприятия не такой же, как при съемке на видеокамеру. Говорят что часть изображения, которая находится в состоянии покоя, мозг дорисовывает… К тому же в «картину» добавляются все возможные ощущения. Но все равно – предположим – теоретически – что все, воспринятое человеком, можно разложить в виде ряда картинок. Ряд картинок может получиться очень длинным – миллионы километров – но все равно он будет конечным. Обращаю внимание – эти кадры – еще не образы, которые способны самостоятельно функционировать в мозгу. Они могут в этом мозгу быть каким-то образом записаны – неизвестным образом зафиксированы в движениях ионов - и всплывать в сновидениях, например. Но это пока просто кадры. Но помимо этих кадров в мозгу функционируют некие образы, не фиксируемые в виде неких визуальных или тактильных воспоминаний. Нечто такое, что невозможно нарисовать. Нечто такое, что противоречит значению слова образ. Представьте, что вы прочитали книгу, например роман Достоевского «Братья Карамазовы». С большим удовольствием и увлечением прочитали. Книжка очень плотная – уж больно много Достоевский в нее напихал. Прошло несколько лет. Вы уже не помните ни сюжета, ни действующих лиц. Если с вами начнут говорить об идеях или героях, описанных в книге, вы вряд ли сможете принять участие в разговоре. Вы не можете об этой книге ничего сказать – кроме того, что читали ее, помните название и автора. Кажется, она полностью стерта из вашей памяти. Но на самом деле – не полностью. Потому что если внимательно присмотреться – всегда что-то остается в виде некоего эмоционального следа, не вербализуемого образа, который включает в себя не только некое чувство о содержании прочитанного, но и чувство о состоянии вашего тела в момент чтения. И этот образ – и образом то не назовешь, потому что любые попытки его обрисовать – запечатлеть на бумаге в виде кадра – кажутся нереальными. При этом очень часто сила этого эмоционального образа-воспоминания настолько ярка и значительна, что попытка перечитать книгу, продиктованная рассудочным желанием хотя бы приблизительно освежить ее содержимое, вызывает рвотные спазмы. Мне кажется, в человеческом мозгу остаются такие образы буквально от всего воспринятого, не важно – идет ли речь о словах или о живописи. Пересмотрите все картины Ван Гога – что я, например, недавно сделал, заполучив его полное собрание на диске. Когда я думаю о том что увидел, я не размышляю о какой-то конкретной картине, в моем мозгу нет никакого единичного образа, последовательно выражающего мои мысли. Подобные явления мозга, возникающие при обращении луча сознания на некую вещь, некогда бывшую предметом восприятия, можно назвать мысле-образом. Но лично мне эта формулировка не нравится. По мне корректнее называть этот феномен эмоциональным следом. Думаю, единство человеческого сознания поддается описанию корректно только как некий эмоциональный след, тень на стене пещеры. Оно сродни попытке пересказать содержание книги, которую прочитал много лет назад и напрочь забыл, но перечитывать нет ни малейшего желания. Сама проблема единства сознания и корректности ее методологического описания важна для теории познания, в конечной реализации выступающей как методология конкретного научного исследования либо профессиональной занятости. В обычной жизни нам не нужны разглагольствования о субъекте, объекте, другом, я и оно. Повседневная жизнь мало напоминает научное исследование. И остаются от нее не только миллионы картинок, которые при желании можно выложить в ряд и сказать – это все. Самой ценной работой сознания, которую только и удается проделать, является работа по созданию абсолютно без-образных смыслов, не мыслей – и не чувств – потому что без слов, и потому что не определяемых ни одним из ощущений, переживаемых человеком в повседневной жизни. Недавно я услышал о смерти Рональда Рейгана. Странно – но при этом во мне зашевелились следы множества эмоций. Есть какой-то яд, если им накачать лягушку – она будет спокойно сидеть, как будто ничего не происходит. Но если сделать громкий хлопок – ударить рукой по крышке стеклянного колпака, например, - а лягушка под ним на блюде, – то яд неожиданно подействует, лягушка вздрогнет, перевернется на спину и сдохнет. Точно так же с эмоциональными воспоминаниями: какой-то незначительный хлопок из пространства – и ты вздрагиваешь и переворачиваешься. Как бы. Я вздрогнул и перевернулся. То есть – что-то вспомнил. Или подумал. Или – вспомнил и подумал одновременно. Эти эмоции – такая штука… Когда они приходят – толком не можешь сказать – думаешь ты при этом, вспоминаешь, представляешь. В мозгу происходит непонятая реакция – как будто какой-то яд приходит в действие, и заодно со способностью представления меняет химический состав крови. Я вспомнил о том, что с детства учился отчленять вещи, на которые стоит обращать внимание, и те – которые очевидно ничем заинтересовать не могут и заниматься которыми чуть ли не пошло. И Рональд Рейган оказался в стане последних. Я вспомнил, что собирал разрозненные восприятия в единую систему – в которой всегда было известно, что интересно, а что нет. Что из множества картинок есть смысл остановить взгляд на некоторых, а все остальные – которые лезут в глаза с такой же настойчивостью, с какой обои собственного жилища – они – шум пространства, отрыжка вселенной, мусор. Я вспомнил восьмидесятые и этот бесконечный политический треп. Всегда об одном и том же. Вкратце – мы хорошие, а они – плохие. Эта эпоха, приучившая к твердой вере в ложь – чтобы ни сказал госчиновник, или «политический деятель» - это всегда ложь. Чтобы тебе они не говорили – это ложь. И не столько ложь – сколько не требующая внимания ерунда, назойливое жужжание мух. Нечто, что нужно терпеть, но не более. Но ведь в природе у всякой вещи есть одинаковое право – и возможность – и вероятность – в сравнении с другой вещью – быть воспринятой твоим сознанием. И критерии ценности воспринятых образов - они скорее культурные – а не экзистенциальные, потому что где-то в глубине подкорки всегда может оказаться, что влияние, оказанное на твое сознание постоянным созерцанием подъезда собственного дома – ничем не отличается по силе и последствиям от восторга, испытанного при виде, скажем, картины Айвазовского «Среди волн». У всех вещей в природе есть равные шансы стать неотъемлемой частью твоего сознания не в силу их культурной определенности – а в силу элементарного факта присутствиям перед глазами, ушами, в силу их наличия в пространстве как единой санкции Бога. И тут я вдруг понял, что привык некоторым вещам отказывать в праве на существование. В праве на наличие в пространстве. Отказать вещи в праве быть вещью – это целая техника, выработанная как средство самозащиты. Но в осадке, даже если остался жив – цел – умение сражаться с пространством вещей, нанося ему раны, прорехи, в которые можно вынести, как трухлявую мебель, ненужное – постепенно превращает это пространство в обломки. Потому что это всегда ложь. Потому что мир – это дом, из которого ничего не вынесешь на улицу. Это невозможно. Итак, я услышал о Рональде Рейгане и со стыдом понял, что нуждаюсь в том, чтобы восстановить единство пространства, обратить внимание на мебель, спрятанную от глаз. Я заскучал о детстве, в котором быстрота принятия решений не сопровождалась чувством отделенности от абсолютного духа. Я затосковал о стране, которая, в силу частных соображений моего сознания, навсегда останется местом, в котором я провел лучшие годы жизни. В общем, я просто затосковал. Рейган умер – и Гегель, как резиновый шарик, спрыгнул с книжной полки и, пометавшись по полу, дробью мелких скачков покатился под кровать, смеясь. Империя зла Так что же нам мешает ознакомится с текстом, на фоне которого прошло добрых лет десять жизни? Который не читали ни мои друзья, ни мои родители? И никогда не прочитают? Ничего не мешает. Вот он. Я изъял только несколько абзацев – чтобы не уснуть. «Мы приближаемся к концу кровавого столетия, зараженного чумой страшного политического изобретения – тоталитаризмом. Шансов быть оптимистом сегодня становится все меньше, не потому что демократия слабеет, но потому что враги демократии усовершенствовали оружие для ее подавления. Но с оптимизмом все в порядке, потому что демократия день за днем доказывает, что она вовсе не хрупкий цветок. От Штеттина на Балтике до Варны на Черном море, у режимов, взрощенных тоталитаризмом, было более тридцати лет для того чтобы утвердить свою легитимность. Но ни один – ни один из этих режимов - до сих пор был не в состоянии пойти на риск свободных выборов. Режимы насаженные с помощью пушек не пускают корни. Сила движения Солидарность в Польше доказывает правоту шутки, бытующей в советском союзе. Мол, что Советский союз все равно остался бы однопартийным государством, даже если бы оппозиция была разрешена, поскольку все присоединились бы к оппозиции… Историки, размышляя о нашем времени, отметят постоянное сдерживание и мирные намерения Запада. Они отметят, что именно демократии отказались использовать угрозу своих атомных монополий в сороковые и ранние пятидесятые для территориальных либо имперских завоеваний. Если бы атомная монополия была в руках коммунистического мира, карта Европы – да что там, всего мира – сегодня выглядела бы иначе. Они отметят, что не демократические страны напали на Афганистан или подавили польскую Солидарность или использовали химическое и биологическое оружие в Афганистане и Юговосточной Азии. Если история и учит чему-нибудь, так это тому, что заниматься самообманом перед лицом неприятных фактов – глупость. Сегодня вокруг себя мы видим отметины ужасной проблемы – предвестия конца света, демонстрации против атомного оружия, гонку вооружений, в которой запад должен быть невольным участником – но ради собственного самосохранения. В то же время мы видим, как тоталитарные силы всего мира ищут нестабильности и конфликтов по всей земле для утверждения своего варварского похода против человеческого духа. Куда же ведет этот путь? Должна ли цивилизация исчезнуть в аду пылающих атомов? Должна ли свобода увянуть в тоскливом, умертвляющем соседстве со злом тоталитаризма? Сэр Уинстон Черчилль отказывался признавать неизбежность войны или же тщетность усилий по ее предотвращению. Он говорил: «Я не верю в то, что Советский союз желает войны. Они желают плодов войны и безграничную экспансию своих доктрин и своей власти. Но сегодня, пока остается время, мы должны найти надежное средство для предотвращения войны и создать условия для свободы и демократии во всех странах настолько быстро, насколько это возможно. Что ж, именно в этом и заключается цель нашей миссии сегодня: сохранить свободу так же как мир. Возможно, до ее реализации слишком далеко; но я верю, что сейчас мы находимся на поворотной точке. В каком-то смысле Карл Маркс был прав. Сегодня мы являемся свидетелями великого революционного кризиса, кризиса при котором требования экономического порядка находятся в прямом конфликте с требованиями порядка политического. Но кризис происходит не в свободном, не-марксистском западе, но в доме марксизма-ленинизма, советском союзе. Это именно Советский союз идет против течения истории, отказывая в праве на человеческую свободу и человеческое достоинство своим гражданам. Также он находится и в глубоком экономическом кризисе. Уровень роста валового дохода начиная с пятидесятых постоянно падает и в данный момент составляет меньше половины того, чем был тогда. Глубина этого кризиса поражает: страна, занявшая одну пятую своего населения в сельском хозяйстве, не в состоянии прокормить свой народ. Если бы не частный сектор, мизерный частный сектор, кое-как терпимый в советском сельском хозяйстве, и страна была бы на грани голода. Эти частные наделы занимают каких-то 3 процента от общей пахотной земли, но отвечают почти за четверть советской сельхозпродукции и одну треть мясной и овощной. Сверхцентрализованная, с минимальными или вообще без стимулов к росту, год за годом советская система растрачивает свои лучшие ресурсы на производство инструментов уничтожения. Постоянное сокращение экономического роста наряду с ростом военной промышленности становится для советских людей тяжелым испытанием. Мы видим политическую структуру, которая более не соответствует экономической базе, общество, в котором производительным силам мешают силы политические. Неудача советского эксперимента не должна стать для нас сюрпризом. Какие бы сравнения мы не делали между свободными и закрытыми обществами – Западная Германия и Восточная Германия, Австрия и Чехословакия, Малайзия и Вьетнам – именно демократические страны процветают и отвечают нуждам своих народов. Одним из простых но ошеломляющих фактов является тот, что миллионы беженцев которых мы видим в современном мире всегда бегут из а не в направлении коммунистического мира. Сегодня по линии Нато наши военные силы противостоят возможному вторжению с востока, Советские силы также обращены на восток, чтобы не позволить бежать своему народу на запад». Сэр Уинстон Черчилль для всего остального мира – нечто вроде Ленина для нас в свое время. Они даже чем-то похожи. Внешне. Выпячивание лысого лба. Несколько мешковатая фигура – у Черчилля это подчеркивает его плащ, у Ленина – штаны на подтяжках. Причем оба, вроде, занимались спортивными упражнениями… Но так или иначе в их внешности в первую очередь подчеркивается интеллект и некоторая асексуальность. То есть - это очень умные люди, занятые сложной научной деятельностью, которых вряд ли заподозришь в сексуальной интрижке с секретаршей. Что же простому обывателю остается противопоставить наукообразности социальных проектов и очевидной непривлекательности ее лидеров? Как функционировать в системе – если она - плод размышлений чужого малопривлекательного сознания? Какую революцию индивид может противопоставить назойливой упорядоченности наукообразной вселенной? - Только сексуальную. Самую подлинную и честную. Я бы сказал - единственно возможную. Голые мальчики и девочки, велосипедной волной нахлынувшие на Европу под звуки “Bicycle race” – это да. Марш членов организации по главной улице города под знаменами Типа Че – это, пожалуй, нет. Я помню как сейчас один из первых уроков в школе. Точнее это был не урок вовсе – нечто вроде нравоучительной лекции, которая по каким-то причинам была поручена не то парню, недавно демобилизованному из армии, не то еще какому военному чину лет двадцати-пяти - тридцати. За его спиной на черной доске висела карта Союза. Он рассказывал о том, что когда мы родились именно здесь - нам очень повезло. Все остальные дети мира страдают или им не повезло. А мы здесь. И мы должны дорожить этим. Было жутко приятно. Эдакая бесплатная добавка вселенского везения в скромное невежество счастливого детства. Но еще – сложная задача на чувственность: по сути нас призывали попытаться ощутить нечто связанное с пространством, неким местонахождением как таковым. То есть когда играешь в футбол или там в палки банки во дворе и выигрываешь – чувствуешь радость, это понятно. А здесь поступило предложение почувствовать радость просто от осознания своего места в пространстве. Это сложно и требует воображения. Хорошо, потому что здесь… Не палки-банки и не футбол, а просто – здесь. То есть стоишь, лежишь, идешь, но если здесь – то уже хорошо. Мол, счастье человека определяется его осознованием пространства… и времени – но это уже чуть позже, к классу пятому-шестому… Свезло - так свезло. В нужное время – и в нужном месте. В самом деле. Но в итоге осталось стойкое чувство, что все остальные дети на земле оказались вне времени и вне пространства. В нигде. Здесь есть, а там – непонятно. Здесь – я выхожу из школы и ветви боярышника протягивают мне навстречу свои невкусные ягоды, как бы принося извинения за свою невкусность – и тем не мене не в силах не выполнить свой долг – и ответственность – за великое благо быть здесь передо мной. А там – никакого долга ни у кого ни перед какими детьми. То есть как бы и нет их вовсе. Но если есть – то это, должно быть, чудо, нарушение законов природы, нарушение законов боярышника, абсурд… И это чудо с каждым годом усугубляется в своей непонятности и загадочности. Настолько сильно, что уже нет мочи – думаешь о них и недоумеваешь, потому что не можешь представить, вообще никак. Я ждал с ними встречи – я воображал эту встречу, я желал ее… Я ее дождался. Уже когда был в восьмом классе в нашу школу привезли делегацию из кубинских школьников… Или они были из Чили? Не помню. Помню, что стояли на сцене в актовом зале, махали руками и пели ритмично решительное нечто. А потом нам позволили подняться к ним на сцену чтобы подарить каждому кажется грамоту – я уже не помню что держал в руках – и значок с изображением лица маленького Ленина… Нам сказали – ну, поднимайтесь, и каждому цветок не забудьте – и мое сердце затрепетало. Я поднялся на сцену, встал напротив девочки – выше меня ростом, кофта с открытыми плечами невероятного загара… Я смутился, быстро сунул ей в руки то, что было у меня в руках, аккуратно положил сверху значок, и – поспешил обратно… уже спустился со сцены – и вдруг – жуткое чувство зависти и обиды: мои одноклассники лихо прикалывали значки на кофты этим невиданным существам и жали им руки… а я – возможно – так никогда к ним и не прикоснусь… Но вернуться обратно уже как-то неудобно… Все же я сделал над собой усилие и вернулся. Опять подошел к этой девушке, взял значок – и дрожащими руками попытался приделать его к кофте, но как можно аккуратнее – чтобы не дай бог опять не ткнуться кулаком в ее неожиданно пышную грудь или не уколоть свой палец в тоже место. Но мало этого – моя мечта опять могла не осуществиться: я хотел пожать ее руку… но увидел, что ее руки заняты – цветком и еще чем-то. Боже, что делать? И ладно бы встретились мы с ней в коридоре – а тут куча народу смотрит на мою спину из зала, и недоумевает, чего я так замешкался. Я быстро погладил ее левое плечо и... ушел. Мое сердце разрывалось от счастья и адреналина. Полагаю, похожее чувство в следующий раз я испытаю только когда встречу дорогого моему сердцу, но уже умершего человека. Возможно, не только потому, что люблю – а потому, что хочу прикоснуться. Что делают эти люди в военной форме вокруг нас? Они стоят вдоль границы, сцепившись за руки, в одну бесконечную цепочку, по линии НАТО одна цепочка – и параллельно ей другая. Сзади в спины солдатам напирает народ – такой, в общем, не злобный, по большей части девушки в кофтах с открытыми плечами… С этой стороны – отсюда напирает, с той – ниоткуда… Напирает все сильнее… И выкрикивает: «Самое глубокое – кожа»…. И транспаранты развеваются как флаги – «Дайте нам прикоснуться!!!»… Солдаты сдают свои позиции, но не расходятся. Упираются, как могут, но напор так силен – что вот, они пятятся на цыпочках навстречу друг другу, ноги в коленках дрожат. Одна линия – к другой. И вот – передышка – они утыкаются друг в друга и смущенно отводят глаза, поворачивают голову в сторону и как бы внимательно следят, чтобы цепочка не разорвалась. Такая работа. «Тяжелые последствия тоталитарного правления породили в человечестве напряжение сил интеллекта и воли. Идет ли речь о появлении новых школ экономики в Америке или Англии, или о появлении так называемых новых философов во Франции, -существует единая нить, объединяющая интеллектуальную работу всех этих групп – отрицание государства как независимой власти, отказ поставить права индивидуальные в подчиненное положение общественным, понимание того, что коллективизм душит все лучшие человеческие импульсы. Генеральный секретарь Брежнев постоянно подчеркивает, что соревнование идей и систем должно продолжаться и что это в особенности способствует ослаблению напряжения и миру. Что ж, мы хотим всего лишь увидеть, что эти системы начинают жить в соответствии со своими собственными конституциями, соблюдают собственные законы, следуют международным обязательствам, которые они приняли. Мы хотим увидеть процесс, направление, основу для постепенного развития, а не мгновенной трансформации. Мы не можем игнорировать тот факт, что и без нашей поддержки вспышки борьбы против репрессии и диктаторских режимов будут происходить. Даже советский союз не застрахован от подобной реальности. Любая система, в которой нет мирных основ, подтверждающих легитимность ее лидеров, нестабильна. В таких случаях сама репрессивность государства неизбежно заставляет людей противостоять ей, если необходимо – даже силой». Поиски легитимности режима – в конечном счете упираются в поиски ответа на вопрос: «На каком основании глава государства занимает свой пост? Что ему дает такое право?» Варианты ответов, как правило, крутятся вокруг все того же единства – но на сей раз единства исторического процесса. Под этим единством подразумевается та простая мысль, что история человечества развивается по некоему общему закону – или множеству законов – таким образом, что нахождение у власти того или иного лица и режима чем-то определено. Для многих думать по-другому – означает отказать исторической науке в праве на существование. Вот варианты ответов: 1. Легитимность – есть физическое свойство некоей касты избранных, которым предписано Богом править народами; 2. Это результат частной инициативы некоего одаренного талантом индивида и определяется она пост-фактум им же самим после прихода к власти; 3. Право править народами дает наличие в человеке выдающихся интеллектуальных способностей и знаний, связанных с социальной инженерией; 4. Легитимность правителя определяется общественным договором, заключаемом с помощью голосования; 5. Легитимность – не более чем некая историческая форма лжи, призванная внушить народонаселению правомочность нахождения у власти любого лица, оказавшегося во главе государства случайным образом. История России, насколько мне помнится, сконцентрировалась на продвижении первого и третьего вариантов. Идея о просвещенном монархе, витавшая в умах некоторых европейских философов лет двести назад, была жалким проектом совместить оба – попыткой наделить природный феномен (читай - богоизбранность) интеллектом. В итоге получился Владимир Ильич. То есть если вам нужна какая-то преемственность между Екатериной Второй и советской властью – вот она… Вспомните его портреты – все как один тяготевшие к тому, чтобы даже от галстука и сюртука в поле зрения ничего не осталось. Одна большая голова – такая большая и такая умная… профиль этой головы – на металлическом рубле – этот профиль ни с чем не спутаешь. Это профиль ученого-интеллектуала. Человека не просто занимающего государственный пост и правящего страной – это образ человека занимающегося сложной научной деятельностью. А это полное собрание сочинений? - нужно будет, кстати, в него, наконец, заглянуть. В Ленинке, кажется, до сих пор стоит на полках в главном читальном зале – в свободном доступе – как фетиш потерянного рая. Знамя социального инженера было подхвачено Сталиным и далее по тексту – «Товарищ Сталин, вы большой ученый» и прочее. Но – посмотрите на современную политическую элиту России - да и некоторых других стран. Кого не ткни – у каждого да найдется какая-никакая научная работа. Лезть в политику, занимать лидирующие позиции в партии и не быть доктором каких-нибудь наук – экономических, философских, юридических, социальных – это почти нонсенс. «Учение Маркса вечно, потому что истинно» - все равно что «Теория относительности Эйнштейна верна, пока не предложено ничего нового». Речь не о вечности и истинности – речь о проекте власти как научно исследовательском институте, опирающемся в своих изысканиях на наиболее продвинутую теорию. Но ведь это совсем не очевидная мысль, что власть должна опираться на какое-то учение и ученых. Того, что власть должна опираться на сильную армию – по идее, уже достаточно. Если легитимность власти определяется ее научной обоснованностью – понятно, что население не в состоянии сделать правильного выбора между той или иной партией. Это глупо. Все равно что вынести на всеобщий референдум вопрос «Существует ли всемирное тяготение», а потом на основании полученного ответа, например отрицательного, дать какому-нибудь КБ задание построить космическую ракету, предварительно отстранив от работы всех, кто голосовал за. Если вы решаетесь на демократические выборы – вы должны на всякий случай быть готовы принять как данность то, что всемирного тяготения может и не существовать, и подчинится решению стаи – чего греха таить – редкостных дебилов. Минимум – до следующих выборов. «Народ Британии знает – если у вас есть сильный лидер, время и немного надежды – победа сил добра и их триумф над злом необратимы. Здесь, между вами, находится колыбель само-управления, Мать Парламента. Это - величие стойкой приверженности Британцев человечеству, великим идеям цивилизации: личной свободе, правительству представляющему интересы всего общества, и правлению закона под властью Бога. Я часто удивлялся застенчивости некоторых из нас здесь на западе в отстаивании идеалов, сделавших так много для облегчения человеческой доли и трудностей нашего несовершенного мира. Нежелание использовать эти неисчерпаемые ресурсы, находящиеся в нашем распоряжении, напоминают мне старую леди, дом который был разрушен бомбами во время налета. Когда спасатели появились, они нашли бутылку бренди, которую эта дама прятала под лестницей – единственное, что осталось целым. Поскольку она была почти в бессознательном состоянии, один из рабочих вытащил пробку и протянул ей бутылку. Она мгновенно пришла в себя и сказала: «Эй ты – положи ее обратно. Это на крайний случай». Что ж, крайний случай перед нами. Не будем же больше стесняться. Обратимся к нашей силе. Дадим надежду. Давайте скажем миру, что новая эпоха не только возможна – но реально достижима. Во время темных дней Второй Мировой Войны Уинстон Черчилль воскликнул о противниках Британии: «За каких людей они нас принимают?» Что ж, враги Британии выяснили, какими незаурядными личностями являются британцы. Но все демократии заплатили страшную цену за то, что позволяли недооценивать свои силы диктаторам. Мы не решимся повторить эту ошибку. Давайте же спросим себя: «За каких людей мы себя принимаем?» И ответим: «Свободных, достойных свободы и предназначенных не только к тому, чтобы оставаться свободными, но и к тому, чтобы помочь другим также обрести свободу. Сэр Уинстон вел свой народ к великой победе в войне и затем проиграл на выборах в тот самый момент, когда настало время пожинать плоды этой победы. Но он покинул свой кабинет с гордостью и, как оказалось, временно, понимая, что свобода его народа важнее судьбы отдельного лидера. История навсегда свяжет с его личностью ореол величия, достичь которого не дано ни одному диктатору. И он оставил нам послание надежды для будущего, столь же актуальное как и в то время, когда он впервые его произнес, будучи лидером оппозиции в палате общин: «Когда мы оглядываемся назад на все опасности, которые мы преодолели, на всех могущественных врагов, которых мы повергли, на все темные и убийственные планы, которые мы разрушили – почему мы должны бояться за свое будущее?» Учит ли история чему-нибудь? Да. Единству сознания. Исторического. Если мы не в состоянии описать единство человеческого сознания в виде ряда – пусть и очень длинного – отдельных картинок – мы наделим это сознание трудно определяемыми эмоциями, укажем на существование впечатлений, восприятий смысла, вещей, не поддающихся графическому описанию, заставим перед смертью собираться в точку единства, свернутого пространства и времени, абсолютного бытия. В конце концов, примем на веру одно из множества решений проблемы, часть из которых я перечислил выше. И останемся с ним наедине. Но если ухищрения, к которым мы прибегаем для собирания личного опыта, в общем и целом не играют какой-то важной роли – в конце концов не так уж и принципиально быть не в состоянии доказать то, что де факто переживаешь со всей очевидностью, - то с такими вещами, как «государство», «народ» - неопределенность понятий не годится. При слове «государственная система» - вздрагиваешь, как будто выходишь из транса, как будто тебя заставили собрать воедино мозги, свободно и безответственно рассыпавшиеся где-то на подступах к лежаку индивидуальной свободы, как будто тебе сообщили по радио новость о безоговорочной капитуляции всех твоих врагов и сомнений. Что такое государственная система? С чем ее можно сравнить? Это скорее одно яблоко – или множество яблок? На что она больше похожа – на человека, который едет в комфортабельном автомобиле с открытым верхом – или на автобус, набитый людьми до отказа? Что вообще такое эти слова – государство, народ, система, дух – и почему когда их слышишь - возникает мучительное чувство – будто мысли разбегаются в разные стороны как испуганные тараканы? Как будто банда преступников ворвалась в твое жилище и выгнала голого на улицу. Гегель видел в государстве вершину – уж и не помню как у него сформулировано – в общем, вершину. Замкнутый герметичный герменевтический круг. Место полного понимания. Система – это когда что-то уже понято, собрано, воспоминания вытащены и распределены. Здесь дух – уже не рискованный проект, а единство эмоциональных образов возникающих в сознании массы телезрителей при произнесении ключевого слова. Государственный строй – как коллективное бессознательное: работает, даже когда о нем не думаешь. Но это только так кажется. Потому что как только перестаешь думать – он тут же не работает. Пожалуй, весь проект страны советов был основан на вере в существование некоей системы, правильной организации, которая в состоянии работать и удовлетворять потребности людей без дополнительных напрягов и необходимости думать – также как артезианская скважина, вырытая во дворе коттеджа – способна снабжать его обитателей водой вечно. И вот что странно – даже при естественно-научной обоснованности проекта, его, так сказать, материальной реальности – ничего не работает. Потому что живучая государственная система – это, на самом деле, не реализация продвинутой научной теории – это скорее риск и позор, это проявление крайнего идиотизма премьер-министра, для которого ежедневно получать плевки в лицо является должностной обязанностью, живучая государственная система – это полная свобода туповатого населения в выборе непредсказуемой ерунды. «Что же, задача, которую я поставил, намного переживет наше поколение. Но вместе мы уже прошли через худшее. Начнем же главную работу для сохранения лучшего – поход за свободу, который потребует веры и смелости следующего поколения. Ради мира и справедливости, давайте двигаться к сообществу, в котором все люди наконец-то будут свободны определять свою собственную судьбу». Свобода – не более чем неустанные попытки связать воедино разрозненные мысли, назвать которые членораздельной речью - единым сознанием – системой – государством или абсолютным духом – нужна конкретная человеческая смелость, и к сожалению – так часто бывает – даже не ум. Нет никакого государства, нет никакого духа, нет никакого единства сознания, нет никакого субъекта. Есть одна сплошная свобода – то есть когда ты напрягаешь мозги и вдруг в пространстве начинает светится то, что тебе нужно. И ключевое слово здесь – «напрягаешь». Призыв в поход за свободу – звучит как нежное обещание навсегда лишить человечество выходных: мол, марихуана кончилась, каникулы отменены, а нежная расслабуха с шашлыками на лоне природе – суть возврат к тоталитаризму. В 1982 году, когда Рейган читал свою речь, я находился в Днепропетровске. Мне было шесть лет. Стоял июнь, июль или август. Было лето. На улицах пахло цветами, как в раю. Я жил у бабушки в спальном районе из кирпичных девятиэтажек. Внизу вдоль домов росли деревья шелковицы и множество цветов. Весь день я играл в футбол, лазил по деревьям шелковицы и пропадал в цветах. Над цветами летало множество пахучих бабочек и шмелей. Сначала я познакомился с бабочками-лимонницами – их было очень много, они были медлительны - и нашел их запах очень приятным. Затем я познакомился со шмелями – тоже медлительными - точнее одним из них – я его поймал так же как бабочку – зажал в ладошке вместе с оторванной головкой цветка. Дедушка долго смеялся. Потом друзья-товарищи научили меня ловить шмелей с помощью спичечного коробка, а когда пойманный шмель просовывал в щель лапки – меня научили цеплять к этим лапкам нитку – и выпускать шмеля на прогулку. В это время где-то в небытии Рональд Рейган собирал добровольцев в поход за свободу человечества. Есть предположение, что наша галактика в какой-то момент перестанет расширяться. То есть когда-то произошел взрыв сверхновой – и все разлетелось. Но – это как отпустить шарик на резиновой веревочке: есть в природе некое черное вещество, которое работает как эта резиновая веревочка – стягивает все обратно. И в какой-то момент наш шарик достигнет крайнего предела, заданного силой первоначального толчка, колыхнется на грани, как старая дева перед тяжким решением, и попятится обратно. Сначала медленно, потом быстрее – ну, в общем, понимаете. В итоге все смешается. Атомы моего мозга – смешаются с атомами стула на котором я сижу, с атомами компьютера, на котором я сейчас печатаю, атомами шмеля, того, который меня укусил, и того, над которым я издевался, или атомами полного идиота соседа с пятого этажа, и его жены идиотки. Размышления о своем прошлом – попытка вспомнить что-то потерянное – когда повинуешься некоему хлопку из пространства и начинаешь вздрагивать, как подопытная лягушка – эти размышления сродни стягиванию обратно разлетевшейся вселенной. В них все перемешивается – в виде атомов мыслей – все становится слишком рядом друг с другом, до неразличимости, как будто каждая вещь, случившаяся в природе, которой ты отказал в праве на существование, вдруг выставляет претензию – предъявляет право на твое сознание – возвращается на место, стягивающееся в точку абсолютного единства. И вот уже Атлантика – не шире Днепра, здание Конгресса – как песочница во дворе кирпичной девятиэтажки, и люди в пиджаках и галстуках ловят шмелей и привязывают к их лапкам черные нитки, а я сам – стою в центре мира, в лучах абсолютной свободы и демократии, в рамке бегущих строк биржевых сводок, и что-то говорю народам земли, марширующим вдаль как голые велосипедистки мимо мавзолея. Смерть Жаркое лето на берегу восточного побережья. Холмистая местность, покрытая густым и чистым лесом. Группа рабочих в белых касках и оранжевых спецовках роет траншею, в которую укладывает трубопровод. Видимо для газа – но неважно. Существование человека в гармонии с природой возможно только при наличии бесперебойного источника энергии. Эти рабочие – неотъемлемая часть гармонии с природой. Возможно, на этих гладких полянах люди будут играть в гольф. Или уже играют. Вот они играют, в белых штанах и футболках с синей полоской вокруг шеи. Везут тележку, из которой торчат головки ракет, поблескивающие в лучах солнца. На берегу моря – а оно рядом, только пройти в сторону милю земли из песка и гравия - стоит несколько машин, поодаль от них – два шезлонга. Никто не играет в гольф на берегу моря? – Чушь. В шезлонгах лежат два человека – Рональд Рейган и его жена. Рональд смотрит отсутствующим взглядом прямо перед собой. Его жена держит в руках газету, которая ее мало интересует. Неподалеку у машин торчат секьюрити, вслушивающиеся в ритмичную чушь от Blood Hound Gang, льющуюся из динамиков в салоне машины:
We’re approaching the end of bloody year, Baby, Какие мысли приходят в голову при виде выжившего из ума инвалида, отдыхающего перед бескрайним простором океана, как будто в преддверии бесконечного замысла – или уже после него? Что история человечества – это борьба системы добра против системы зла? Стремление к энергетической гармонии? Борьба определенности с неопределенностью? Апофеоз частиц и всепобеждающее единство мирового духа? Он вздрагивает и вдруг выбрасывает в сторону руку, как будто пытаясь что-то схватить. - Рони, что с тобой? - Шмель, это шмель, он где-то здесь, в кустах… Берег океана – лучшее место для прощания с жизнью. Облака проплывают как картины, выложенные в ряд длиною в миллионы миль, эмоциональные следы черепах, исчезающие в песке, омываемом пеной, и вдруг - запах невиданных цветов и шелковицы, при воспоминании о которой вся душа вздрагивает и как будто выворачивается наизнанку понимания, и чье-то чужое чувство, что последние несколько страниц нес полную ахинею, как будто полулежишь перед лицом смерти и думаешь в чем была твоя кульминация, что ты здесь, и все, и никуда не денешься, не уйдешь от восторженных аплодисментов, штурмующих побережье как волны, не уйдешь от империи зла, проплывающей мимо в оранжевой яхте с обнаженной девушкой, принимающей загар на корме, никуда не денешься как вкус боярышника, чьи ветви в поклоне склоняются к твоему лицу, передавая привет ниоткуда, от этого кукурузника, который сбежал с аэродрома, он выписывает в облаках замысловатые фигуры и каждым взмахом крыла приближает себя к небесам как будто возносит ясную весть высокоэтажным арабам всего мира: «Нэнси, Нэнси, я умираю». | |||||||
|
| |||||||