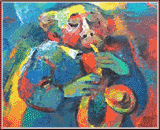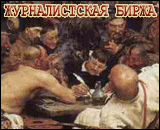|
Давидович увидел её в витрине
кондитерской в бельгийском городе Брюгге. Она лежала за невидимым от чистоты
стеклом, томно раскинувшись – шоколадная женская грудь. Грудь была исполнена из
молочного шоколада, соски – из чёрного горького, похожие на неудачно выточенные
Давидовичем на уроке труда в шестом классе шахматные пешки. Не скрывая сосков,
по изделию причудливо рассыпался белым кружевом выдавленный из кондитерского
шприца прозрачный лифчик .
Давидович сказал себе, что немедленно завладеет этим сокровищем, и будет владеть
им долго и безраздельно.
Но сначала необходимо было отвлечь жену. Она не разрешит купить ЭТО, а если и
разрешит, непременно устроит чаепитие для своих подружек, и чудное произведение
бельгийского шоколадника истает в их желудках, запитое горячим чаем. Как
африканский воин, надеясь поумнеть, поджаривает и съедает мозг умного
противника, так и плоскогрудые вечные пигалицы непременно сканнибалят сладкий
бюст, чтобы у самих прибавилось. Хотя, зачем бы им эти никчемные отростки?
Грудных детей у них не предвидится, в их общем любимом занятии пантомимой бюст –
обуза, а мужчинам, соответствующим их вкусам, нравится отсутствие груди. Лишь
он, Давидович, муж Лободы, отсутствием этих подробностей тяготится до такой
степени, что готов покупать их в шоколаде. Впрочем, и у жены был пунктик, на
который её можно было надолго замкнуть – ёлочные украшения. Её детские, любимые,
когда-то перебились при транспортировке, и теперь она не упускала возможности
пополнить коллекцию.
Кто-то свыше, может быть, бельгийский Дед Мороз, развернул на их пути сверкающую
наряженной ёлкой витрину рождественского магазина. Давидович дёрнул жену за
рукав:
– Лобода, ты глянь-ка, ёлочные игрушки! Летом!
Он называл жену по фамилии, которая к ней очень шла, больше, чем имя Люда, и тем
более – Мила. В фамилии были ЛОБ и ОБОД, ОДА и ДА. В силу рода своих занятий,
она могла превратиться в кого и во что угодно. Сам Давидович и влюбился в неё,
очарованный этим свойством .
Лет, почитай, двадцать назад институтская студия пантомимы давала инсценировку
«Малыша» Стругацких. Давидовича уговорила пойти на спектакль его тогдашняя
девушка Муся. Отношения с Мусей мерцали, требуя постельного продолжения, к
которому она была готова, но сам Давидович боялся портить девушку из хорошей
семьи и наживать проблемы с её родителями. На Мусе надо было жениться, а к этому
юный Давидович не был готов.
Женился он на гуттаперчевой Лободе через сто дней после приснопамятного
спектакля. Об утраченной Мусе он начал сожалеть уже на второй год жизни с
Лободой. Но та превращалась в кого угодно, даже немножко в Мусю, и это примиряло
с ней Давидовича.
Роль Малыша была словно сшита на Лободу. Малыш пересмешником повторял чужие
слова и действия, и ей ничего не стоило превратиться в Малыша. Лиловую кожу
заменило синтетическое трико. Над лицом-маской поработали гримёры. Она виртуозно
воспроизводила пластику дикого подростка, описанные Стругацкими неестественные
движения и нечеловеческую мимику. Она создавала на сцене свои клоны и распускала
защитные фантомы. Фигуристая исполнительница роли Майки блекла рядом с
пацанкой-Лободой.
После премьеры Давидович потащил Мусю за кулисы, где счастливая Лобода в мокрой
лиловой шкуре получала от восторженных студентов комплименты, чахлые цветочки и
непристойные предложения в порядке живой очереди. Муся шепнула Давидовичу :
«Пойдём отсюда», почуяв гибкую потную силу Лободы, способность той превратиться
в любое мужское желание, и своё скорое поражение в битве за Давидовича. Но
одержимый Лободой Давидович из очереди не ушёл, переждал всех, и предложил
проводить пантомимистку до дома. Та согласилась, и Муся уже была не в счёт.
Но нет, сначала они проводили Мусю до подъезда. Давидович даже не дёрнулся
подняться до квартиры. Она шла по лестнице одна, как на эшафот, втайне мечтая,
чтобы в парадном оказался палач – насильник или убийца, и чтоб вероломный
Давидович со своей артисткой мучались грехом до конца жизни.
А спровадив Мусю, не поматросив, обратно в хорошую семью, Давидович, довольный
собой и своей свободой, помчался с Лободой на окраину, в коммуналку, где фея
пантомимы снимала комнату.
Утром обнаружилось, что стриженая под мальчика Лобода обращается женским
существом только в трико, а в джинсах, свитере и кроссовках, никем не
притворяясь, она и выглядит никем. Однако, в кроватных амплуа она выступила
блестяще, и даже недостаток вышеупомянутой груди не мешал Давидовичу.
Грудь она играла, как роль.
День Давидович провёл спокойно, даже весело. Отсидел лекции. Приветливо, как ни
в чём не бывало, кивнул в коридоре зарёванной Мусе. Вечером, вопреки привычке
теснить в общаге иногородних однокурсников, поехал ночевать домой.
Но не доехал. Прямо в трамвае его потянуло к Лободе. Он проклял себя за то, что
не запомнил её адреса, даже улицы, вышел из трамвая и потопал в студенческий
клуб, не будучи уверенным, что репетиция студии пантомимы сегодня состоится.
Ему повезло – он нашёл студийцев за разминкой в балетном классе. Разминку
проводила сама Лобода. В трико – не концертном, целом, а репетиционном, с
некоторыми дырочками, она казалась особенно желанной.
– Можно? – спросил Давидович у аккомпаниатора.
Тот кивнул – то ли Давидовичу, то ли в такт музыке, и Давидович присел на низкую
скамью, тянувшуюся вдоль единственной не занятой зеркалами и балетным станком
стены.
Лобода командовала, подходила к разминающимся, тянула спины, складывала пополам
в талиях, ставила руки, подпинывала ноги в нужную позицию.
В перерыве она – литая фигурка, резиновая Зина, – подошла к Давидовичу, обронила
по-деловому:
– Слушаю?
– Я скучал, – не нашёлся, что сказать, Давидович, вперившись в дырочку на её
плече.
– Через час освобожусь.
Теперь уж Давидович запомнил адрес. Он перестал появляться дома, отговариваясь
наступающей сессией и усиленными занятиями. После недельного мотания между
институтом и коммуналкой, он привёл свою новую подругу домой.
Мама, которая на хорошенькую положительную Мусю хмурила бровки, бесполую в своих
джинсах Лободу пропустила без допроса, приняв ту за партнёра сына по подготовке
к зачёту.
Комната Давидовича понравилась Лободе. Она позвонила руководителю студии и
сказала. чтобы разминку сегодня проводили без неё. Затем разделась донага и
забралась в постель Давидовича. Порыв самого Давидовича присоединиться
натолкнулся на ответ:
– Дай поспать, а?
Давидович, чувствуя угрызения совести за то, что не давал девушке выспаться всю
неделю, вышел из комнаты.
Мама, казалось, забыла о присутствии в доме гостьи. Они, как ни в чём не бывало,
поужинали в семейном кругу. Когда стемнело, папа (который вообще не знал про
Лободу), решил проявить очередную партию негативов в комнате сына. Он расставил
на подносе ванночки с проявителем и закрепителем, разложил держатели, плёнки,
фотобумагу, и кивком позвал Давидовича-младшего. Тот, задыхаясь, краснея и
поглядывая на маму, объяснил, что к нему в комнату нельзя, потому что там
товарищ переутомился и отдыхает.
– Девочка, – вставила мама.
Папа Давидович поставил фотографический поднос на стол, и выдавил:
– У тебя… В комнате… Девочка… Переутомилась?
– И отдыхает! – с готовностью продолжил Давидович.
– А кто? Её? Переутомил?
– Я её оставил в комнате одну, и всё! Меня там не было. Скажи ему, мам!
– Его не было. Да расслабься ты, Сёма. Там смотреть не на что.
– Не на что? – отец обратился к Давидовичу.
– Почти не на что. – смущённо отозвался Давидович.
Папа зашёл в комнату сына, включил настольную лампу, приоткрыл одеяло, оглядел
Лободу, опустил одеяло, выключил лампу и вышел. Закрыв за собой дверь, он
заключил :
– Там есть на что смотреть.
– Кому как. – буркнул Давидович из чувства противоречия.
– Ага! – загорелся папаша, – ты знаешь, о чём говоришь!
– Оставь ребёнка в покое, – вступилась за сына мать, – В его возрасте мальчик
уже должен знать, о чём говорит.
– Муся! Серьёзная девочка! Порядочная! Из хорошей семьи! – прошипел папа грозным
шёпотом, - А ты кого в дом привёл?
Мама, более опасавшаяся серьёзной Муси, чем приблудной Лободы, тоже перешла на
шёпот:
– На этой он, по крайней мере, не собирается жениться!
– Он и на Мусе не собирается! Идиот! – зло бросил папа.
– Вот и славно. – ответила мама, - это нам сейчас совсем не нужно. Правда,
сынок?
– Конечно! – искренне произнёс сынок.
Заявление в ЗАГС понесли в ближайший понедельник. Лобода исполнила старинный
номер «а-на-каких-я-тут-правах?», пригрозила возвращением в коммуналку, и
Давидович, не в силах расстаться с ней, дал слабину. Родителей приучали к мысли
постепенно. Для начала пригласили их на «Малыша». Папа вышел из зала,
очарованный Лободой, а мама корила себя за беспечность, и добром поминала
упущенную Мусю.
Три месяца, отпущенные ЗАГСом на размышления, каждый размышлял о своём. Старший
Давидович размышлял о Лободе, неприметной в джинсах, неотразимой в трико,
незабываемой в наготе. Мадам Давидович размышляла о том, что Лобода, слава богу,
в хозяйстве не мешает, на кухню не лезет и питается засыпанными сахаром
половинками купленных у метро грейпфрутов. Сам Давидович размышлял о лёгких
стриженых волосах, нежной шейке и немыслимой гибкости своей невесты, и о том,
что всё это теперь будет принадлежать только ему, а не студии пантомимы.
А Лобода размышляла о том, что грех не воспользоваться случаем явить свой талант
западному миру.
Ближе к свадьбе, когда время для размышлений подходило к концу, из пригорода
приехала будущая тёща Давидовича. В новеньком, ещё ни разу не стираном, красном
штапельном платье в белую крапинку, сохранившем запахи сельпо – от керосина до
земляничного мыла, с букетом гигантских гладиолусов и потёртым чемоданом, с
сизыми локтями, чёрными ногтями, жёлтыми пятками и красным треугольником в
вырезе, она взволновала старших Давидовичей. Свадьба на носу, а как подобную
сватью предъявить приглашённым?
Впрочем, улыбка Лободы-матери была приветливой, речь – правильной,. Но казалось,
это даётся ей с трудом, и она того и гляди ляпнет что-нибудь об украденной
шляпке и пришитой тётке.
Выяснилось, что она разводит в совхозе цветы, и у себя на участке тоже разводит
редкие сорта, на семена у неё очередь со всего Союза, отчего и сама живёт
неплохо, и дочь ни в чём не нуждается. Затем она распахнула свой чемодан и
раздала подарки: папе жениха – компактный магнитофон, маме – отрез японского
матового, невиданной красоты, шёлка, а молодым – бриллиантовые серьги и
бриллиантовые же запонки. Каждый из мужчин с сожалением подумал о невозможности
поменяться подарками – сын не носил запонок, а отец не слушал музыки, но нельзя
было обижать дарительницу. А Давидович-мама немного успокоилась, мысленно
пометив себе сводить потенциальную сватью по магазинам и в косметический салон.
На другой день после прибытия, за завтраком, тёща объявила, что ей не терпится
приняться за предсвадебную генеральную уборку.
– Я считаю, что дом надо перетряхивать до основания ежеквартально, включая
подвал, чердак и антресоли. – произнесла она, прихлёбывая чай, – Меня и дома
хлебом не корми – дай погенералить, да, дочка?
Лобода нырнула носиком в свой дежурный грейпфрут, подтверждая слова матери.
Тёща явно успокоилась, пообвыкла, и перестала прилагать усилия для удержания
речи в светском русле. Позднее выяснилось, что судьба тёщи протекала в
направлении, противоположном судьбе Элизы Дулитл. Та из бедной цветочницы
превратилась в преуспевающую леди, а эта – из бедной леди в преуспевающую
цветочницу.
Торжества прошли на уровне. Родня, сослуживцы родителей, друзья жениха и студия
пантомимы в полном составе танцевали «Семь сорок», ели и пили. Студия
продемонстрировала сюиту-буфф «Горько». Двоюродная бабушка из Киева
продекламировала под горячее многостраничную «Эпиталаму любви». Однокурсники
Давидовича напились сами и напоили папу Семёна. Тёща, прошедшая обряд
ритуального очищения в салоне красоты, наперебой танцевала «slow» с сослуживцами
Семёна, явившимися без жён. Свадьба, как свадьба.
Как подготовка к свадьбе сменилась подготовкой к отъезду, Давидович даже не
помнил. Он писал диплом, а в доме происходили приготовления к чему-то
непонятному. Первым признаком перемен, не понятым Давидовичем, была прописка
тёщи в их квартире. Он ненароком подслушал ночное шушуканье мамы, тёщи и жены об
этой прописке. Удивился, но успокоил себя тем, что мама знает, что делает.
Затем в институте к нему подошла Муся и пригласила посидеть в кафе.
– Я хочу попрощаться. – сказала она, – Мы уезжаем.
– Куда? Туда? – Давидович, изображая перевал через бугор, сделал рукой волну, по
пластике исполнения достойную Лободы.
– Угм, – подтвердила Муся.
– А диплом?
– Не нужен он мне. Я хочу заниматься совсем другим делом.
– Каким? Не скажешь?
– Не скажу. Вдруг не получится.
– Муся, ты не сердись на меня за тот вечер.
– За вечер? За вечер – не сержусь.
Давидович хотел было сказать ей ещё что-нибудь тёплое, но приличествующее
женатому мужчине, однако не нашёл слов. В повисшей паузе она поспешно достала из
сумочки небольшой увесистый свёрток.
– Это тебе. На память. Нам это не разрешила комиссия по вывозу художественных
произведений. Очень ценная вещь. Я решила оставить тебе. Тебе это – в самый раз.
– Что это? – Давидович принялся разворачивать свёрток.
– Не надо, дома посмотришь, – остановила его Муся, – Это настольная скульптура.
Китай, двадцатый век. Красная медь, многоцветная перегородчатая эмаль. Фигура
козла.
Показывать фигуру козла дома Давидович не посмел. Развернул в метро. Козёл был
красно-сине-золотой, в листик и цветочек, с витыми посверкивающими рожками и
ладной бородкой. Давидович таскал козла в портфеле до самой защиты диплома. А
после защиты и в их доме вещи тронулись с мест, проходя двойной контроль: мамин
– брать, оставлять, и тёщин – себе, продавать.
Им тоже было, что отнести на художественную комиссию – картину, подаренную папе
сослуживцами на пятидесятилетие, текинский ковёр и хрустальную люстру.
Когда на таможне заколачивали уже досмотренные багажные ящики, Давидович,
чувствуя себя контрабандистом, бросил козла в один из них.
Через полгода ящик привезли на съёмную квартиру в Тель-Авиве. Разбирать его
пришлось Давидовичу с отцом, мама ушла мыть чужую квартиру, а Лобода – скакать
Майклом Джексоном на местном Монмартре.
Всё доехало в целости, кроме любовно уложенных Лободой на самом верху ёлочных
украшений. На них пришелся эмалированный козёл. Папа вытряхнул сверкающие
осколки, достал козла, спросил:
– А это что?
– Перегородчатая эмаль. Китай. Фигура козла. Муся подарила.
– Да? Тебе идёт. Молодец Муся. Кстати, она где-то тут. Не искал её?
– Нет. Найду – отдам эту фигуру. Во-первых, ценная вещь, даже запрещённая к
вывозу. Во-вторых, где мне её спрятать, чтобы не было лишних вопросов?
Козла сунули в пустую антресоль.
Когда они сменили пятую квартиру, а козёл – пятую антресоль, жизнь начала
понемногу налаживаться. Давидович устроился на инженерную должность, целыми
днями мотался по объектам. Папа подрядился писать студентам рефераты по физике.
Мама вела хозяйство. Тёща расцвела на цветочном бизнесе, приватизировала
родительскую квартиру и купила себе ещё одну. Ежегодно она навещала семью
дочери, одаривала всех неизменно щедрыми подарками, а на прощание, как встарь,
устраивала генеральную уборку (фигуру козла на время тёщиного визита зять от
греха подальше перекладывал в багажник машины).
Лобода, сколотив на Майкле Джексоне не облагаемую налогом сумму, открыла студию
пантомимы для скучающих дамочек, которые боготворили её, постоянно названивали
домой и докучали Давидовичу своим костлявым присутствием. Одна из этих дамочек и
принесла в дом объявление о кастинге на актёра-водителя ростовой куклы на
телевидении.
И Лобода превратилась в чудовище Тутти-Ту, оживив своей неподражаемой пластикой
довольно топорную работу создавшего куклу художника. Тутти-Ту замелькал на
майках, чашках и пеналах. Когда шоу продлили на второй сезон, Лобода потребовала
прибавку и часть от авторских прав, наряду с художником и озвучивавшим
хвостатого монстра актёром. Руководство недальновидно попыталось её сменить.
Мол, подумаешь, лица-то не видно, кто угодно может прыгать в костюме. Но не
тут-то было. Зрители заметили подмену, и Лобода вернулась на место. Авторских
ей, конечно, не дали, но зарплату назначили настоящую, телевизионную, втрое
превышавшую оклад Давидовича.
В Бельгию Лобода с супругом приехала на европейский слёт телевизионных
персонажей.
Купив два килограмма вожделенной груди аж за семьдесят пять евро, пока жена
нагружала сумки звёздами, сосульками и ангелочками, Давидович второй раз в жизни
почувствовал себя контрабандистом. Спрятав коробку с нежным изделием в пакете
для грязных трусов, он трясся в гостинице, боялся в автобусе, дрожал на таможне.
Наконец, дома, улучив момент, он засунул контрабанду на антресоль, к козлу.
Но тревога не покинула несчастного. Если для фигуры козла у него уже была
заготовлена недоумённая отговорка, что она осталась от прежних хозяев квартиры,
то для свежего бельгийского шоколада фривольной конфигурации он ничего не смог
придумать.
Когда вечерами Лобода задерживалась на съёмках, он открывал коробку и вдыхал
сладостный аромат. Пару раз уже заваривал было чай, но нет – рука не поднялась.
Как-то к Лободе пришла подруга с маленьким сыном и попросила не давать малышу
конфет.
– Ему нельзя, но он так любит шоколад – находит по запаху за сто метров!
Мальчишка, как назло, крутился под антресолью, поводя носом. У Давидовича сдали
нервы, и он вызвался, пока подруги беседуют, вывести гадёныша погулять на
детскую площадку.
Потом приехала тёща, а он совсем замотался, сдавал важный объект, и прослушал её
предупреждение «Буду генералить». Правда, козла он загодя отнёс в багажник, а
грудь в багажнике бы моментально расплавилась. Когда он пришёл с работы, коробка
с грудью лежала на столе, а за столом был полный сбор. Он оторопел – рабочий
день выжал его без остатка, и он не был готов к надвигающимся разборкам.
– Что это такое? – ноготок Лободы указывал на проклятую коробку.
– Ну, я просто хотел тебя развлечь. Я ждал, когда к тебе подружки придут чаю
попить. И достал бы, смеха ради.
– Смеха ради? Хорош смех! Я целыми днями парюсь в этой дурацкой кукле, по
заграницам его вожу. А он! Семьдесят пять евро за ЭТО!
Давидович понял, что жена тычет в ценник.
Тёща сдёрнула с коробки крышку, и Давидович увидел коричневое, с двумя чёрными
блямбами и мелкими белыми точками месиво. В месиве, расплывшиеся, неузнаваемые,
всё ещё высились два холмика. «Слава богу, в нашей благословенной стране жарко
не только в багажниках», – подумал Давидович.
Месиво охладили в морозильнике, нарезали поперёк пластами и съели с чаем.
Давидович занемог и в тризне не участвовал.
На другой день у Давидовича случился жар. Впервые за всю жизнь, он взял
больничный и завалился на диван. Включил телевизор – там прыгал Тутти-Ту,
хвостатая основа благополучия семьи. В сердцах Давидович переключил на местный
русскоязычный канал. И увидел Мусю.
– У козерогов тяжёлый период, – сказала Муся,– сказывается нервное
перенапряжение, возможны недомогания.
– Точно! – подтвердил Давидович, – он был по гороскопу козерог.
– Если у вас, козероги, есть соответствующий знаку амулет, особенно, если он
подарен любящим человеком, – прикоснитесь к нему, расскажите ему свои беды.
Обещаю, что вам полегчает, – мило улыбалась прелестная Муся с экрана.
Стало быть, козёл был не оскорблением, выполненным в технике перегородчатой
эмали, а соответствующим знаку амулетом от любящего человека! Давидович сходил
за ним в машину. Налил стопку, чокнулся с настольной скульптурой промеж рогов:
– Ничего, фигура! Выше бороду! Мы же с тобой – ценные, контрабандные козероги!
|